бордово-черные кусты, синеватыми и зеленоватыми пренебрегали. Срезанные
листья сносили поближе к лаве и там грузили на свои огнеупорные барки.
Проворно перебирая ступами-веслами (взмахов пятнадцать в секунду, для меня
словно спицы в колесе мелькали), гребцы гнали эти барки со скоростью
глиссера. Я с моими мотокрыльями поспевал за ними не без труда.
Уже за ближайшим мысом поток расширялся, впадая в продолговатый залив, а
залив тот выходил на гладь обширнейшего сияющего огнеокеана. Поверхность
его была ровной, глаже, чем у водяных морей. Сказывались и вязкость
расплавленного камня, и большая сила тяжести в этом мире. Даже свирепые
местные ураганы не могли взволновать огненную гладь, лишь изредка
раскачивали пологую зыбь. И по слепящей зыби скользили, перебирая своими
веслами-ступицами, огнеупорные суда с дюжиной гребцов, с двумя дюжинами,
даже двух- и трехпалубные - с длиннющими веслами, по три гребца на каждом.
Суда выбегали из всех заливов, двигались вдоль берегов, а также и через
океан, к горизонту и от горизонта. И отметил я, что все трассы расходились
веером от двух столбообразных гор, прикрывавших вход в бухту.
Я поспешил туда. Успел до очередной бури проскочить между столбами, и
передо мной открылся...
Громадный город. Обширный. Густо населенный. Оживленный. Город-крепость и
город-порт.
В глубине бухты у причалов, прямолинейных, явно искусственных, толклись
десятки дирем, трирем, катамаранов. Раскаленные докрасна грузчики, мелькая,
как солнечные зайчики, сносили на берег охапки, сумки, мешки, корзины,
кувшины...
Сам город находился поодаль, на ближайшем холме. От порта туда вела
дорога-улица, огражденная по всей длине стенами своеобразного профиля, с
остроугольными контрфорсами снаружи и с козырьками на внутренней стороне.
Полагаю, что форма эта диктовалась атаками ветра. Судя по бесчисленным
ямкам и выщербинам в стене, ветер штурмовал город неустанно, разъедая
стену, как соль разъедает снег. Но и ремонтировалась она без труда. Местные
каменщики просто поливали ее расплавленной лавой из океана.
Улица взбиралась на холм зигзагом, двухкилометровой змеей, и на все два
километра под козырьком выстроились лавки. Словно нарочно огнеупорны
приготовили для меня музей-выставку своей продукции.
Листья - черно-шоколадные и черно-бордовые, цельные, нарезанные,
накрошенные, сушеные и сваренные тут же в котлах, залитых сверкающей лавой.
Куски мяса, ободранные ноги и головы, живые звери, в большинстве
отвратительные на вид, какие-то толстые змеи и светящиеся улитки, мелкие и
громадные, трехрогие,
седлами и сбруей, видимо верховые и упряжные, Груды шкур; одежда из этих
шкур, серые ткани, сплетенные из серебристых алюминатных волокон. Вазы -
продолговатые, пузатые, с ручками и без ручек, с крышками и без крышек, с
нашлепками и рисунками. Кучи непонятных мелочей - возможно, это были
украшения. Длинные палки с металлическими лезвиями - кривыми вилообразными,
трезубчатыми, вероятно, оружие разного сорта. Оружие сплошь холодное. Не
только ружей, но и луков со стрелами не было. Думаю, что плотная и
беспокойная атмосфера Огнеупории препятствовала прицельной стрельбе.
Но что самое важное, я увидел книги, по всей видимости, книги: склеенные
гармоникой и выбеленные каолином листы кожи, покрытые рядами мелких черных
значков. В городе я нашел целую мастерскую, где трудились десятки
переписчиков, украшая листы шеренгами загогулин. А возле этого дома, в
узком кривом дворе, с готовыми гармошками под мышкой прогуливались три
толстых огнеупорца со свитой из десятка маленьких, тощеньких. Тощие, держа
в руках глиняные дощечки, быстро-быстро острыми палочками царапали на глине
значки. Возможно, это были авторы со своими секретарями или проповедники с
учениками.
Конечно, все это я разглядел позже, изучая кадры. Авторам, может быть, и
представлялось, что они солидно прогуливаются, неторопливо изрекая и
поучая. А для моих медлительных глаз казалось, что они носятся как
угорелые, чуть не налетая на стену, а вокруг них, словно собачки, бегают
спутники с дощечками. Очевидно, любое, самое торжественное собрание, даже
похороны можно сделать смешными, если крутить киноленту в удесятеренном
темпе.
Сценки я снимал, разговоры записывал; вернувшись в свою нору, отдал записи
киберу для анализа. Он все еще не овладел местным языком, вместо перевода
давал грамматические пояснения: "Флексия, предлог, показатель
множественного числа..." Можно представить себе, с каким нетерпением я ждал
перевода. Нарочно завалился спать пораньше, чтобы время прошло быстрее. Сам
спал, а бессонный кибер напрягал свои кристаллические мозги, расшифровывая
лепет огнеупорцев. И поутру он выдал мне перевод. Утром я просто называю
время после сна, дня и ночи не было на Огнеупории. Итак, проснувшись, я
заметил две светлые лепешки неподалеку от моего укрытия, направил на них
фоноуши, включил кибера и...
- Что же он сказал тебе?
- Сказал: "Мало ты сделала сегодня. Все на прохожих заглядываешься, жениха
подбираешь..."
- Ну и что? Обычная шутка. Все парни так говорят.
- Да, но как он поглядел на меня при этом.
- Он смотрел на твою полосатую юбку. Она просто неприлична на работе.
- Оставь, пожалуйста. Скажи честно, что ты мне завидуешь.
- Нет, полосатое действительно нескромно. Так и кричит: "Обрати на меня
внимание!"
- Ой, пошли. Бери серп. Надсмотрщик идет сюда.
Вот и все. Но я был в восторге. Готов был выскочить из щели, обнять этих
пылающих девиц. Их болтовня была словно весть с родной планеты. Подумать
только: миллиарды километров от дома, жерло "пещи огненной" и в этой
"пещи", в огне не горящие саламандры, непонятные существа с алюминиевой
кровью сплетничают о загадочных личностях противоположного пола. Что-то
умилительное в этом вселенском всевластии любви. И что-то разочаровывающее.
Стоило лететь за миллиарды километров и опускаться в "пещь огненную", чтобы
услышать мудрое замечание о нескромности полосатых юбок.
После первого удачного перевода дело пошло у кибера. Вскоре он выдал мне
обрывки разговоров других работников на поле, перебранку продавцов с
покупателями в торговом ряду, почти полностью песню гребцов: "Мы
ребята-молодцы, мы - галерные гребцы. Раз, и раз, и раз, и раз. Дело
спорится у нас. Нас сажают на скамью, в цепи тяжкие куют. Но раз и раз...",
и так далее, в том же бравурном тоне, неожиданном для рабов, прикованных к
скамье, но, видимо, продиктованном темпом гребли.
Однако интереснее всего для меня оказался перевод беседы трех ученых мужей,
которые метались в тесной загородке, полагая, что солидно прогуливаются,
выявляя истину в споре.
Первый ученый. Я спрашиваю: почему тюк травы под тяжелым камнем становится
плотным комком? Почему кусок железа под ударами тяжкого молота превращается
в острый нож? Почему этот острый нож может рассечь грудь, проникая в тело?
Почему гребец, упавший в лаву, погружается в нее? На все вопросы одним
ответом отвечаю.
Потому что тюк травы состоит из стебельков, разделенных воздухом, и они
сближаются под тяжким камнем. И подобно траве, кусок металла, и жаркая
лава, и моя грудь, и даже воздух сам состоят из тончайших стебельков,
тонюсеньких, не различимых глазом. И стебельки те могут сдвинуться,
заполняя пустоту, или, наоборот, раздвинуться, пропуская нож в тело или
тело утопающего в лаву.
Еще спрашиваю: если все на свете состоит из стебельков, как же рождается
великое разнообразие мира: мужи, жены, кнэ верховые, кнэ съедобные и
кровожадные лфэ, стебли, листья, плоды, гибкий металл, твердый камень,
жидкая лава и воздух, которым мы дышим, хотя и не видим его?
Отвечаю одним ответом: те невидимые стебельки различны по форме, оснащены
колючками и крючочками, могут цеплять друг друга, образуя узоры, подобные
кристаллам застывшей лавы в прохладное семисотградусное утро. Однако в
воздухе, где каждый стебелек плавает сам по себе, словно крупинка в
жиденькой похлебке нищего, сцепления редки и узоры примитивны. Просты узоры
и в твердом камне, где стебельки сложены плотно, как хворост в вязанке, нет
простора для перемещений и сочетаний. Счастливее всего чувствуют себя
стебельки в лаве, где и привольно, и велик выбор касаний, и есть место для






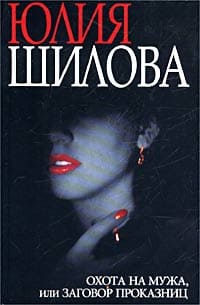 Шилова Юлия
Шилова Юлия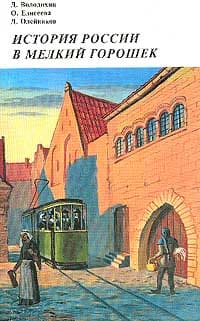 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия Николаев Андрей
Николаев Андрей