прикрыл пятно на нем пиджаком, и они отправились.
обрамленная серебристыми локонами; из ноздрей торчат пучки волос; нос
размятой картофелиной; лицо изборождено глубокими изломанными складками;
нависшие серые, пушистые брови трепещут при каждом движении головы. От
гладко выбритого подбородка туго натянутыми струнками сбегали морщины.
Лондковский в профиль немного напоминал Сократа.
разглядывал профессорское жилье, обставленное все же наспех, хотя фура
шесть раз ездила на вокзал и обратно.
прогибались от толстенных томов. Книги в основном - в черных переплетах с
золотым тиснением. В самом низу - кипы научных журналов. Кое-где виднелись
на полках, словно случайно туда затесавшиеся, желтые или зеленые томики.
Наискосок к окну стоял письменный стол, передний край которого был, словно
забором, огорожен учебниками. Строгость этой комнаты, почти кельи,
смягчали ковры: один, с высоким, как трава, ворсом, ромбом лежал у самого
порога, другой - что-то вроде маленького гобелена - служил фоном для
фигуры Лондковского.
Профессор умел разговаривать живо, вроде как обо всем на свете, а в
сущности, ни о чем. Вышло так, будто они явились к нему за советами и
знаниями. Он их расспрашивал о работе, интересах - разумеется,
исключительно профессиональных, старательно избегая всего, что касалось
больничной жизни. Держался он совершенно на равных. И именно благодаря
этому сохранял солидную дистанцию. Даже крупицу доброжелательности могла
свести к нулю его собственная душевная надменность. Взглянув на две
бронзовые головы на низенькой полочке - Канта и неандертальца, - Стефан
даже поежился. Его поразило, что, хотя в похожем на клубень черепе и
сильно выдававшихся вперед глазницах неандертальца притаилась дикость,
отсутствующая в другой голове, от обеих веяло каким-то бесконечным,
мучительным одиночеством, словно каждая из них вобрала в себя жизнь и
смерть многих поколений.
долу глазах, Павлов - резко торчащая вперед борода, лицо до жестокости
любопытного ребенка, и Эмиль Ру - старик, добитый бессонницей.
срежиссировал обмен поклонами и короткими, но теплыми рукопожатиями, так
что они очутились в коридоре, немного сбитые с толку, чуть ли не против
собственной воли.
которые подтачивают устои мироздания, но партнер оказался совсем не на
высоте. Энергия, которую Кшечотек демонстрировал Лондковскому, испарилась.
Было похоже, что, войдя в его кабинет, свое несчастье он оставил за
профессорской дверью. А теперь вновь натягивал его на себя. Носилевская
донимала его все больше. Загорелая, равнодушно-вежливая, она отвечала на
его трагически-вопросительные взгляды улыбкой, которая не означала ничего;
она всегда оставалась врачом, готовым объяснить румянец приливом крови к
голове, а сердцебиение - переполненным желудком. Заряженная, словно
аккумулятор, женственностью, она мучила его каждым своим движением. Он,
однако, робел заговорить с ней: собственное молчание оставляло ему хоть
видимость надежды, которую неопределенность как бы укрепляла. Стефан давно
уже состоял при друге деятельным утешителем-резонером и нес эту службу
добросовестно, порой даже наслаждаясь ее изысканностью. Иногда он пускал в
ход диссонансы, разражаясь после какого-нибудь излияния Сташека громким
хохотом или больно хлопая его по лопатке, но немедля брал себя в руки.
ранет, скатывались в короткую, испещренную звездами темноту. После
вечерней грозы, когда деревья, сотрясавшиеся от раскатов грома,
успокоились и, отяжелевшие от влаги, смирно стояли в наползающих сумерках,
к Стефану явился торжественный Марглевский: он организовал научную
конференцию с демонстрацией больных.
событий. Вы, коллега, и сами увидите.
протаранить несносную робость Сташека; опять все пошло прахом...
пришел Ригер, за ним - Каутерс, Паенчковский, Носилевская, наконец,
Кшечотек. Когда, казалось, пора было уже и начинать и все выжидательно
поглядывали на Марглевского, суетившегося подле высокого пюпитра, на
котором лежали его бумаги, вошел Лондковский. Это было настоящим
сюрпризом. Старик с порога всем поклонился, затем погрузился в большое
кресло, которое Марглевский предусмотрительно поставил для пего впереди
остальных, скрестил на груди руки и замер. Желая как-то вознаградить
Сташека, обманутого в своих надеждах, Стефан постарался устроить так,
чтобы Носилевская оказалась между ними. Докладчик подошел к пюпитру,
откашлялся и, покопавшись в своих листочках, поднял на присутствующих
поблескивающие стальные очки.
до конца обработанных материалов, касающихся специфического влияния,
каковое некоторые болезненные состояния психики оказывают на ум человека.
Речь идет о симптоме, который можно было бы назвать тоской
выздоравливающего по ушедшему безумию; в особенности это характерно для
простых людей, неинтеллигентных, которых шизофрения в некотором роде
одаривает обогащающими их внутренний мир экстатическими состояниями; такие
больные, излечившись от болезни, тоскуют по ней...
расплетая пальцы. По мере того как, перекладывая странички, он погружался
в тему, росло и его возбуждение. Он заглатывал окончания слов, сыпал
латынью, строил бесконечные, головоломные фразы, стараясь не смотреть в
свои записи. Стефан с интересом разглядывал красиво очерченную голень
Носилевской (она заложила ногу за ногу). Он уже довольно давно перестал
слушать Марглевского. Этот вибрирующий голос убаюкивал. Но вот докладчик
попятился от пюпитра.
проявляется эта, как я ее называю, тоска по безумию. Прошу! - Он резко
повернулся к открытой боковой двери.
проеме двери маячило белое пятно - халат санитара, поджидавшего в
коридоре.
Марглевский. - Как вас зовут?
Марглевский.
Марглевского совершенно не интересовал этот человек; ему хотелось лишь
вытащить из него нужное признание.
были совсем иными. Марглевский облизал губы и хищно вытянул вперед шею,
упершись взглядом в желтое лицо больного, затем резко взмахнул рукой,
давая знак зрителям, словно дирижер, который вытягивает чистое соло одного
инструмента, но не забывает и об оркестре.
видел...
Больной явно что-то хотел сказать. Несколько раз начинал он поднимать
вверх обе руки, пытаясь подтвердить жестом свои слова, но слова эти так и
не были произнесены, и каждый раз руки беспомощно опадали.
четко, деловито выспрашивал Марглевский.
белые пальцы. И, не отрывая от них глаз, тихо протянул: - Неученый я... не
умею. Началось, как я шел с сенокоса, там, где усадьба Русяков. Там это на
меня и нашло. Все эти деревья там, во фруктовом саду... знаете, барин, и
овин... как-то переменились.
по-другому.
произносящий реплику "в сторону", бросил:
большим пальцем висок.



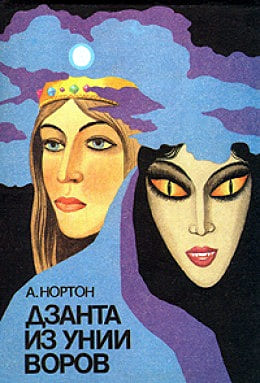


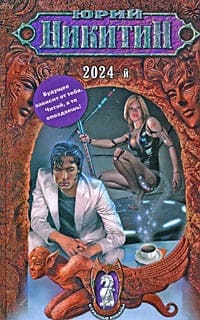 Никитин Юрий
Никитин Юрий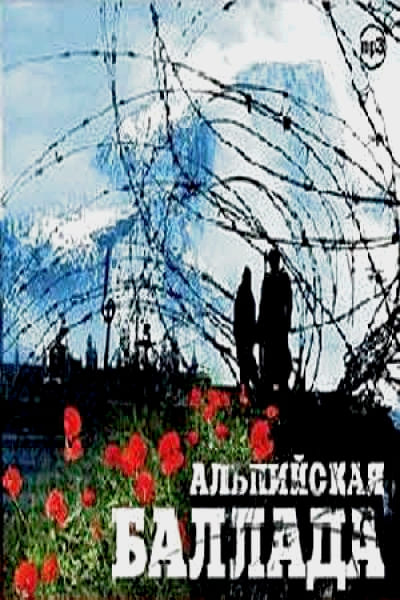 Быков Василий
Быков Василий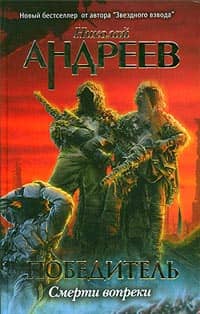 Андреев Николай
Андреев Николай Махров Алексей
Махров Алексей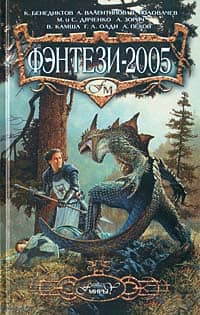 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Прозоров Александр
Прозоров Александр