Spottgeburt aus Dreck und Feuer [здесь: смесь грязи и огня (нем.)].
Подлинный шедевр прикладного садизма. Если хотите слушать, прошу в ванную,
мне надо принять душ.
омовений - быть может, ради того, чтобы и таким образом унизить врача.
Раздевшись догола, он влез под душ и продолжал:
Когда они умолкли, я подумал: ого! Ну, а когда посылались со всех сторон
советы, чтобы я перестал, что тупик, что дорога в никуда, что я кончаюсь,
я уже знал - все отлично.
большой вещи), пользовался славой в кредит. Кредитовали его все, но только
не я. Он коллекционировал афоризмы, как бабочек. Они нужны ему были для
"книги жизни". Писал он ее с юношеских лет, все правил, ссылался на
рукописи Флобера, все что-то там переменял, и все было не так. За неделю
переставлял три слова. Когда он умер, я на несколько дней достал его
рукопись. Вы смотрите с любопытством, да? Скажу кратко: шаром покати. Ни
упорства, ни желания, ни труда. Не верьте-ка хвастунам: талант надобно
иметь. Пусть мне не тычут в нос измызганные клопиной кровью правки
рукописи Флобера, я-то видел работу Уайльда. Да, Оскара. Вы знаете, что
"Портрет Дориана Грея" он написал в две недели?
Член Пен-клуба. Упанишады читал в оригинале и писал по-французски не хуже,
чем по-польски. Его даже критики уважали. Одного меня он боялся и
ненавидел, поскольку я знал его пределы. Слышал их в каждой его вещи,
словно глухой стук от удара по дну. Начинал он изумительно, обрисовывал
обстоятельства, людей накачивал кровью, сюжет развивался легко, но дело
неминуемо доходило до момента, когда надо было оторваться от плоскости
листа исписываемой бумаги и приподняться - на чепуху, на один шажок. Вот
тут и наступал его конец. Он не мог. Другие не слышали фальши, вот он и
думал, что перебьется, как голый андерсеновский король. Но я слышал,
слышал этот звук пустой бочки. Вы меня понимаете? Чужая вещь похожа на
лежащий на земле тяжелый предмет. Уже подходя к нему, я мог оценить:
подниму или нет? Это значит: способен ли я на такой размах?
написал, с некоторым изумлением... Но речь главным образом о стиле.
Различия между поколениями сводятся к тому, что какое-то время пишут:
"Утро пахло розами". Приходят новые: ого, вывернуть! И какое-то время
пишут: "Утро пахло мочой". Но прием-то тот же самый! Никакие это не
реформы. Не в этом новаторство.
нельзя было нащупать... тоже как у женщины. Подождите-ка, я вспомнил
отличную историю. Позавчера доктор Ригер дал мне почитать несколько старых
литературных журналов. Как это забавно, доктор, как забавно! Эта свора
критиков, которые выговаривали каждое слово в убеждении, что их языком
вещает история, хотя в лучшем случае все это было икотой после вчерашней
пьянки. Ау! - Пена прилипла к его волосам. Он нежно массировал себе живот,
не переставая говорить: - У меня о тех годах воспоминания самые горькие,
хорошо еще, что судьба залепила их, словно рану, пропитанным бальзамом
пластырем. Слышали вы о?.. Впрочем, оставим имена в покое. Пусть спит себе
в гробу, на который я нас... - грубо засмеялся он, может, из-за того, что
был наг. Ополоснувшись, взял купальный халат и заговорил спокойнее: - Я
был вроде нахальнейшим созданием на свете, но, в сущности, сама
неуверенность... Тогда человек подбирал себе идеологию, как галстук, из
целой связки: какая поцветастее и поденежнее. Я был этаким беззащитным
бедолагой, а над всеми нами сиял, словно ярчайшая звезда, некий критик
старшего поколения. Он писал так, как Хафиз воспевал бы паровозы. Он был
плоть от плоти девятнадцатого столетия, задыхался в нашей атмосфере, ему
недоставало великих. Нас, молодых, он еще не замечал. Поодиночке мы были
не в счет: нужен был десяток, чтобы он поклонился. Доктор, это был
любопытный тип. Просто прирожденный писатель - у него был и талант, и
меткая метафора по любому поводу, и юмор, и полное отсутствие сострадания.
Это самое важное: в таком случае можно описать любую грозу, глядя на нее
из бездонных геологических глубин. Ни капельки волнения. Запихивать
страсть во фразы - это значит загубить любую вещь. Он был такой: ради
одной прицельной метафоры, если она пришла ему в голову, он был готов
раздолбать любую книгу вместе с ее автором. Вы спросите: вопреки своему
мнению? Вы наивны, - Секуловский с большим тщанием расчесывал влажные
волосы, - сегодня я знаю совершенно точно, что он ни во что не верил.
Зачем? Это были великолепные часы без одной малюсенькой шестереночки,
писатель без гирьки. Ему недоставало ерунды, чтобы стать польским
Конрадом, но это можно было исправить.
как некоторые теряют женщин, - без повода и без возможности вернуть. Я
тогда страдал, мне нужно было пророчество. О, еще бы чуть-чуть, и он
прикончил бы меня. Прежде всего: во что-то он все же верил. В себя. Он
излучал эту веру, как некоторые женщины излучают женственность. К тому же
он был до того прославлен, что всегда оказывался прав. Он прочитал
несколько стихотворений, которые я принес ему, и оценил, их. Мы
противостояли друг другу, как мотыга и солнце. Я был острой мотыгой. - Он
усмехнулся, размашисто завязывая галстук. - Он все это разложил на
простейшие элементы, покопался в них и объяснил, почему они ничего не
стоят. Поколебавшись, в конце концов позволил мне продолжать писать. Он
мне позволил, понимаете? - Секуловский весь скривился. - Ах, это старая
история. Но как подумаю, что для молодых сегодня имя его - пустой звук,
испытываю наслаждение. Месть, к совершению которой никто и мизинца не
приложил, которую учинила сама жизнь. Месть эта созревала медленно, как
плод: не знаю ничего слаще, - и, очень собою довольный, поэт застегнул
серебряные шнурки тужурки из верблюжьей шерсти.
гениального человека? Что судьба Ван-Гога будет повторяться вечно?
хватает какой-нибудь одной гирьки, как вы выразились. Вот, скажем,
Морек...
оборвал его:
должности.
психиатрии... в особенности его работы по шизофрении, - возмутился Стефан.
правда, не пускают, но замурованы они в своей специальности... был у меня
знакомый лихенолог. Вы, может, не знаете, что это такое? - неожиданно
спросил Секуловский.
счел нужным пояснить Секуловский. - Эдакое чучело, толоконный лоб. Латыни
его хватало, только чтобы классифицировать; из физиологии он знал лишь то,
без него не напишешь статьи, а о политике, кроме как со своим кучером,
потолковать был не в состоянии. Когда разговор с грибов перескакивал на
другие темы, он становился скучен. Наш мир кишмя кишит такими "гениальными
вычислителями", они всего-навсего приспособили свои ничтожные способности
к тому, что отвечает общественным потребностям, вот их и терпят. В
литературе полно таких, которые, сочиняя послание прачке, оттачивают его,
думая о посмертных изданиях... Ну, а врачи?
чтобы вытянуть из Секуловского еще какую-нибудь занятную формулу, но это
кончилось грубой отповедью. Раздосадованный Стефан отправился к себе
наверх.
всяких к тому оснований Стефан. Ему захотелось на ком-нибудь отыграться, и
он решил подслушать, что творится в его комнате. В коридоре было пустынно
и темно. Он подкрался к своей двери на цыпочках: тишина. Какой-то шелест,
шорохи - платье? одеяло? Потом какой-то звук, словно поршень выбило из
шприца: шлепок. Затем опять полная тишина - и рыдания. Да, там кто-то
плакал. Носилевская? Этого он и вообразить себе не мог. Стефан тихо
постучал, а поскольку никто не ответил, постучал еще раз и вошел.
полумраком, зеркало отбрасывало широкую полосу мягкого света на стену и
кровать. Опустошенная наполовину бутылка апельсиновой настойки: добрый
знак. Постель в беспорядке, словно тут пронесся торнадо, но где же
Носилевская? На кровати лежал один Сташек, одетый, зарывшись головой в
подушку, и плакал.
подбегая к кровати.
зареванное лицо; лик отчаяния.
мы ни... мы никогда не будем говорить об этом.


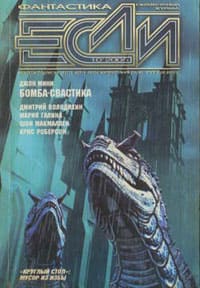
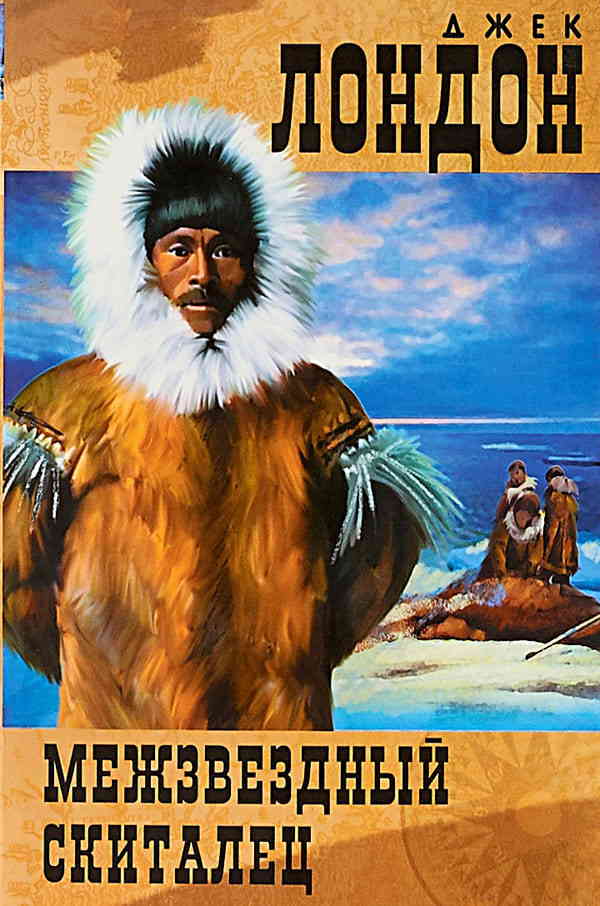


 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий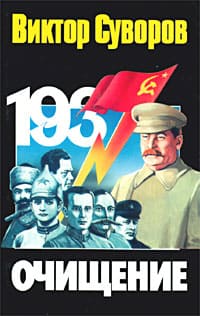 Суворов Виктор
Суворов Виктор Василенко Иван
Василенко Иван Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Земляной Андрей
Земляной Андрей