окончательно победило такт.
не говори теперь со мной! - и убежал, прижимая к груди подушечку-думку.
уже скатывалась вниз по лестнице.
подумав, понюхал подушку, но никаких открытий не сделал. Любопытство
сжигало его, он было собрался к Носилевской, но раздумал. Может, к утру
Сташек угомонится... может, по ее виду удастся что-нибудь понять...
(Наверняка ничего - возразил он самому себе.)
ОТЕЦ И СЫН
навозные кучи. Осина под самым окном болела: ее слишком рано пожелтевшие
листья покрылись черными оспинами. Застыв у окна, Стефан всматривался в
голубевший, как лезвие ножа, горизонт. Частенько теперь на него накатывало
какое-то оцепенение; надолго замерев в самой неудобной позе, упершись
глазами в небо, он всматривался в узоры, которые рисовали пылинки,
кружившие в безжизненной ясности, обрамленной оконной рамой.
пациентки. Ему хотелось убить время, и он согласился охотно.
исказить ее портрет. Она была из тех худеньких, похожих на подростков
крестьянок, которые украшают платье кружевами и притягивают к себе взоры
мужчин. Все очарование этой восемнадцатилетней шизофренички было в ее
глазах, темных и подвижных. Руки ее постоянно находились подле лица, и
ладони, трепеща пальцами, словно худенькие голуби - крыльями,
присаживались то на щеки, то на крохотный подбородок. Стоило только
оторвать взгляд от ее глаз, как все чары улетучивались.
больше привлекала его, чем сильнее он этому противился. Несчастная,
трагическая любовь (трудно было от нее добиться, что же все-таки
произошло) толкнула ее к бегству от злого мира, в котором она испытала
столько страданий, в мир зеркальный. Ей захотелось обосноваться в
собственном отражении.
никелевое зеркальце. Он позволял девушке в пего смотреться.
пальцы без конца касались то бровей, то волос. Она не могла оторвать глаз
от блестящей поверхности.
приятелей. Они умудрялись с утра до вечера просиживать перед зеркалом,
часами примеряя разнообразные улыбки, изучая блеск глаз, исследуя каждую
веснушку, каждую складочку, тут что-то разглаживая, там к чему-то
осторожно прикасаясь, будто алхимик, колдующий над ретортой в ожидании,
когда появится золото. Разумеется, болезненные навязчивости: как это он
раньше об этом не подумал? Правда, это были безмозглые бабенки, но
разговоры об интеллигентности всех неврастеников - просто чушь.
похоже на признание: "И я, собственно, таков".
Изгоняемая оттуда, она затаивалась под дверью и кидалась на каждого, кто
открывал дверь, молитвенно складывала руки и просила позволения взглянуть
на свое отражение. Она не пропускала ни одной никелированной поверхности.
постели, стараясь измучить себя, но сон не приходил, а когда наконец
все-таки одолевал его, то казалось, что в комнате, за мечущейся над
ночником мошкарой, кто-то неподвижно стоит. Стефан знал, что никого там
нет, но сон снимало как рукой, и только на рассвете, под первый зябкий
щебет птиц, он погружался в беспокойную дрему.
раньше обычного. Вскоре неясная тревога разбудила его. За окнами тлела
белесая заря. Не одеваясь, в ночном белье, Стефан подбежал к окну. На
посыпанной щебенкой дороге, подходившей к самым дверям лечебницы,
мурлыкали моторами две большие легковые машины в камуфляжной окраске,
хорошо различимые в отражавшемся от стен свете фар. Подле дверец стояли
немцы в темных касках. Из-под козырька, нависающего над воротами, вышли
несколько офицеров. Один что-то прокричал. Моторы взревели, офицеры сели в
машины, солдаты с обеих сторон на ходу вспрыгнули на подножки. Свет фар
скользнул по клумбам, стеганул по ехавшей впереди машине - это
продолжалось какое-то мгновенье. Яркие пятна вырвали из мрака сидевших;
Стефан увидел обнаженную голову между двумя касками и узнал ее обладателя.
Столбы света уткнулись в ворота, около которых стоял ослепленный фарами
вахтер с шапкой в руке. Потом моторы заревели уже на шоссе. Еще раз, на
повороте дороги, свет фар вырвал из тьмы ряды на миг позеленевших
деревьев, неподвижные кружева листьев; побежали плоские тени стволов, а
напоследок сверкнул белизной и тотчас пропал березовый крест. От самого
горизонта вновь накатила тишина, пульсировавшая, словно кровь в гигантском
ухе, стрекотанием сверчков. Стефан сорвал с крючка плащ, наспех натянул
его и босиком выскочил в коридор.
вопросами, что-то кричали, толком ничего нельзя было разобрать. Но
постепенно дело прояснилось: в лечебнице побывали эсэсовцы из летучего
отряда, расположившегося сейчас в Овсяном. С собой они привозили рабочего,
арестованного на подстанции; остальных разыскивали. Марглевский
громогласно объявил, что с этого момента никто не должен ходить в лес, так
как эсэсовцы будут его прочесывать, а с ними шутки плохи.
Паенчковским.
рассказывал он, в лице его не было ни кровинки, под глазами круги.
мимо Стефана, остановился, словно собираясь что-то сказать, но только
зловеще покачал головой и исчез в коридоре.
лихорадке; десятки раз он крепко зажмуривался и вызывал в памяти
коротенькую ночную сцену; он уже не решался, как тогда, когда наблюдал за
ней, уговаривать себя, что арестованный - не Вох. У него не осталось ни
малейших сомнений в том, что это его большую квадратную голову увидел он
со второго этажа. Стефан изо всех сил сдерживал себя, чтобы не застонать,
огромной тяжестью навалилась на него ужасающая ответственность. Испытывая
неистребимое желание на кого-нибудь перевалить ее, чтобы очиститься от
мучительного чувства вины, Стефан с самого утра отправился к Секуловскому,
но тот не дал ему и рта раскрыть. Он был явно не в своей тарелке и, едва
Стефан переступил порог, закричал:
"занимать позицию"?! Каждый делает, что умеет. Поэт - такой человек,
который умеет красиво быть несчастным. Неужели вы полагаете, что после
этой войны все лесные ахиллесы станут катонами? Фурии были не лучше вас,
но их я понимаю, они хоть женщины по крайней мере! Да оставьте вы наконец
меня в покое!
готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы заглянуть на подстанцию. Стефан
понимал, что раз электричество в лечебнице есть, значит, кто-то должен
быть и на подстанции; кто-то там работает - вместо Воха; может, этот
кто-то знает?..
мужского корпуса. Его внимание привлекли красноватые пятна на полу, но,
приглядевшись, он понял, что это не кровь.
его работой. Лицо юноши оставалось бесстрастным. Желтоватое и слегка
перекошенное, маленькое, с резко очерченным профилем, оно походило на
живую маску. Порой он прикрывал глаза и застывал - даже ресницы не
вздрагивали, затем задирал голову и водил кончиками хищных пальцев по
поверхности глины. Какое-то умиротворение чувствовалось в опущенных
уголках его рта. Призраки больше не преследовали его, фразы разваливались
у него во рту, он уже не в состоянии был достучаться до окружающих: ушел
от всего. Высшая степень безразличия, какая воцаряется лишь в толпе и у
людей, потерявших сознание, давала юноше возможность оставаться один на
один со своей работой, - казалось, он заперт в келье. На круглом столике
из плоского кружочка глины поднимался перед ним высококрылый ангел. В
перьях, раздвинутых очень широко, как у задушенной птицы, чудилось,
притаился ужас. Лицо ангела - готически вытянутое, прекрасное, спокойное.
Низко опущенными руками - словно это вызывало у него самого отвращение -
он сдавливал горло младенца.
санитар, Юзеф-старший: больные обязаны отвечать докторам.
тяжело шагнув к юноше.
не шелохнулся.
Он замахнулся, будто собираясь сбросить фигуру. Парень опять не


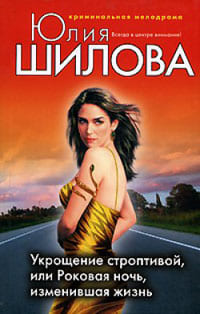


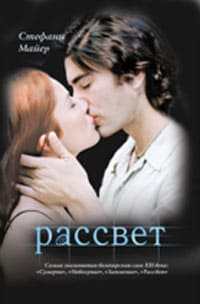
 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел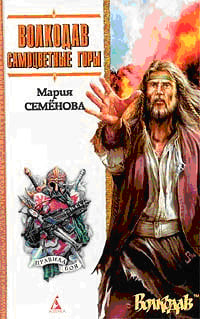 Семенова Мария
Семенова Мария