помещиков и врачей, да еще такой, который, хоть ему и было уже под
шестьдесят, ничего, собственно, не изобрел.
родился молчуном, так как на попытки завязать разговор отвечал лишь более
теплой, чем обычно, улыбкой и благодарным взглядом, который он на миг
отрывал от тарелки, - но Стефану этого было мало, он жаждал погрузиться в
беседу, тем более что заметил зловещие вспышки в глазах Ксаверия: тот явно
к чему-то готовился. И вот, когда воцарилась относительная тишина,
нарушаемая только стуком ложек по тарелкам, дядя промолвил:
евнух в гареме, верно?
всему, планировал острое продолжение, но ему не удалось насладиться
реакцией на свои слова, ибо родственники, как по команде, заговорили
громко и торопливо, благо лес знали, что Ксаверий подобные вещи говорить
должен и единственное противоядие - немедленно глушить их общим громким
разговором. Потом одна из прислуживавших баб вызвала дядю в кухню на
поиски грудинки, которая куда-то запропастилась, и трапеза была прервана
неожиданной паузой. Стефан скрашивал ее созерцанием коллекции родственных
физиономий. Пальму первенства он бесспорно отдавал дяде Анзельму. Широкий
в плечах, грузный, но не тучный, скорее массивный, лицо не красивое, но
барственно породистое, и он знал этому цену! Пожалуй, наряду с медвежьей
буркой, только это лицо и осталось у него, некогда владельца обширных
угодий, утраченных лет двадцать назад. Якобы благодаря
сельскохозяйственным экспериментам - но на этот счет Стефан не знал ничего
определенного. Наверняка было известно лишь то, что Анзельм энергичен,
задирист и вспыльчив одновременно; причем предаваться гневу он умел, как
никто в семействе, - по пять, а то и десять лет, так что даже тетя Меланья
забывала, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. В эти затяжные
раздоры никто не отваживался вмешиваться, так как, если дядя обнаруживал,
что родственник не знает причины его обид, гнев Анзельма автоматически
распространялся и на незадачливого посредника. Именно так ожегся отец
Стефана. Однако самые сильные враждебные чувства в душе дяди Анзельма, как
и вообще в семье, стихали, когда умирал родственник; вызванная таким
образом "treuga Dei" [благословенная пауза (лат.)] продолжалась, в
зависимости от обстоятельств, несколько дней или чуть больше недели. Тогда
его врожденная доброта отражалась в каждом взгляде и слове - такая
бесконечно щедрая и незлопамятная, что всякий раз Стефан бывал глубоко
убежден, что это не временное перемирие, а окончательный отказ от гнева.
Но потом нарушенный соприкосновением со смертью строй дядиных чувств
восстанавливался, неумолимая суровость воцарялась на годы, и ничто не
менялось - до следующих похорон.
нравилась Стефану в детстве; позже, в университетские годы, он отчасти
разгадал, в чем дело. Некогда гневливость дяди опиралась на его
материальное могущество, на его владения, то есть, проще говоря, на
будущее наследство, но благодаря стойкости характера Анзельм не лишился в
семейном кругу способности гневаться и после потери состояния, и его
побаивались по-прежнему, хотя гнев его уже не подкреплялся угрозой лишения
наследства. Но, даже обнаружив этот ключ, Стефан так и не освободился от
почтения, сдобренного страхом, - чувства, которое вызывал у него старший
из братьев отца.
когда эту огромную глыбу мяса извлекали из недр старинного буфета, ее
черный цвет напомнил Стефану о черном цвете гроба, и на минуту ему стало
не по себе. Из двери, ведшей в коридор, с топотом и шумом внесли вереницу
жареных уток, банки с терпкой брусникой и блюда с дымящимся картофелем;
обещанная ранее скромная трапеза явно превращалась в пиршество, тем более
что дядя Ксаверий доставал из буфета одну за другой бутылки вина. Ощущение
отчужденности от присутствующих неожиданно и резко обострилось; Стефана и
до сих пор немного огорчал и тон разговоров, и изобретательность, с
которой избегали упоминания о смерти, а ведь в конце концов именно она и
была единственным поводом этой встречи, теперь же это огорчение
многократно возросло, и Стефана уже оскорбляло все, в том числе и стенания
по утраченной родине, сопровождавшиеся энергичной работой вилок и
челюстей. А когда он подумал о дяде Лешеке, который лежал теперь
заваленный глиной на пустынном кладбище, ему показалось, что только он еще
и помнит о покойном; с неприязнью взирал он на раскрасневшиеся лица
сотрапезников, и его возмущение выплеснулось за пределы семейного круга и
вылилось в презрение ко всему миру. Но пока Стефан мог выразить его лишь
воздержанием от еды, в чем настолько преуспел, что встал из-за стола почти
голодный.
соседа слева, произошла какая-то перемена. Уже некоторое время он
озабоченно вытирал усы, робко посматривал по сторонам и на дверь, словно
прикидывая на глазок расстояние; он явно к чему-то готовился. Вдруг
наклонился к Стефану и шепотом объявил, что ему пора идти, чтобы успеть на
познанский поезд.
Стефан.
терпят и отпуск на день удалось получить с огромным трудом; всю ночь он
добирался до Нечав, а теперь самое время в обратный путь... Оборвав
нескладную речь, громадный усач глубоко вздохнул, резко поднялся, едва не
потащив за собой скатерть вместе с посудой, и, кланяясь вслепую, на все
стороны, стал протискиваться к дверям. Посыпались вопросы, протесты, но на
пороге упрямый молчун еще раз отвесил всем низкий поклон и исчез в
передней. За ним бросился дядя Ксаверий, вскоре хлопнула входная дверь.
Стефан глянул в окно. На дворе уже стояла тьма. Он представил себе
долговязую фигуру в куцей солдатской шинели на раскисшей дороге...
Посмотрел на опустевший стул по левую руку, заметил, что бахрома низко
свисающей накрахмаленной скатерти раскручена и старательно расправлена
прилежными пальцами, и в груди защемило от теплой, сердечной жалости к
этому, собственно говоря, незнакомому дальнему родичу, который уже вторую
ночь кряду будет трястись в темном, холодном вагоне ради того только,
чтобы пешком пройти сотню-другую шагов, провожая покойного.
выглядел жалко - на тарелках высились обглоданные кости, облепленные
застывшим жиром. Наступило минутное затишье, воспользовавшись которым
мужчины полезли в карманы за папиросами; ксендз протирал замшей очки, а
тетушка-бабушка впала в тупую задумчивость, которая походила бы на
дремоту, если бы не широко открытые глаза. Среди этого всеобщего молчания,
пожалуй, впервые прозвучал голос Анели - вдовы. Все еще сидя за столом, не
пошевелившись, не поднимая поникшей головы, она проговорила, упершись
взглядом в скатерть:
наступило, никто не решался нарушить: ничего подобного никто обычно себе
не позволял, никто не был к этому подготовлен. Ксендз, правда, тотчас
направился к Анеле, двигаясь с какой-то рутинной озабоченностью, словно
врач, которому положено оказать первую помощь, но который не знает, что
надо сделать; однако этим он и ограничился, застыл подле нес - она вся в
черном, он тоже в черной сутане, с лимонно-желтым лицом и припухшими
веками; он стоял и часто моргал, пока не выручила всех прислуга, вернее,
исполняющие ее роль деревенские бабы, которые вошли и с невообразимым
шумом принялись собирать тарелки и блюда.
шкафом, под бронзовой, слегка коптящей керосиновой лампой с абажуром
апельсинового цвета, дядя Ксаверий объяснялся торопливым полушепотом с
родственниками. Одних уговаривал переночевать, других информировал о
расписании поездов, распоряжался, когда кого будить; Стефан хотел было
немедля отправиться в обратный путь, но, узнав, что поезд у него только в
три часа ночи, заколебался, дал себя уговорить и решил остаться до утра.
Ночевать ему предстояло в гостиной, напротив часов, поэтому пришлось
ждать, пока все разойдутся. Когда это наконец произошло, была уже почти
полночь. Стефан быстро умылся, разделся под едва-едва мигавшей лампой,
задул ее и, зябко поеживаясь, скользнул под холодное одеяло. Сонливость,
одолевавшую его до этого, как рукой сняло. Он долго лежал на спине без
сна, а часы, едва различимые в кромешной тьме, величественно, с каким-то
чрезмерным рвением, вызванивали четверти и часы.
пережитого дня, однако неторопливо и как бы преднамеренно бежали в одну
сторону. В характере всего семейства сошлись лед и пламень, горячность и
упрямство. Тшинецкие из Келец славились алчностью, дядя Анзельм -
вспыльчивостью, тетка-бабка - неким, сглаженным временем любовным
безумством; эта роковая черта проявлялась у каждого в семействе по-своему:
отец был изобретателем, всем остальным занимался из-под палки, от мирских
забот отмахивался, как от мух, часто пугал дни недели, дважды проживал
четверг, а потом выяснялось, что проворонил среду, но это не была
обыкновенная рассеянность, только чрезмерная сосредоточенность на идее,
которая в данный момент его обуревала. Когда отец не спал и не болел,
можно было дать голову на отсечение, что он торчит в своей крохотной,
оборудованной на чердаке мастерской, среди пламени спиртовок и газовых
горелок, в окружении раскаленных инструментов, вдыхая запах кислот и
металлов, и что-то к чему-то прилаживает, что-то шлифует, что-то
сочленяет, и все эти манипуляции, из которых складывается процесс поиска,
никогда не прекращались, хоть и менялись направления экспериментов, - от о
той неудачи отец шествовал к другой с одинаковой верой, со страстью,
настолько мощной, что на посторонних производил впечатление одержимого или


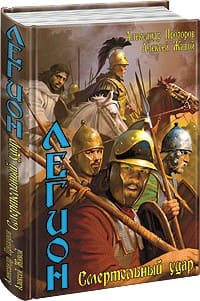
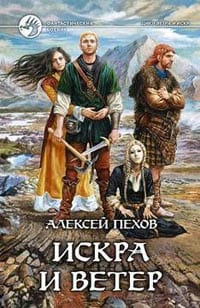


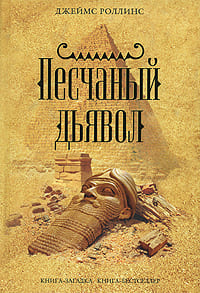 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Емилина Ника
Емилина Ника Шилова Юлия
Шилова Юлия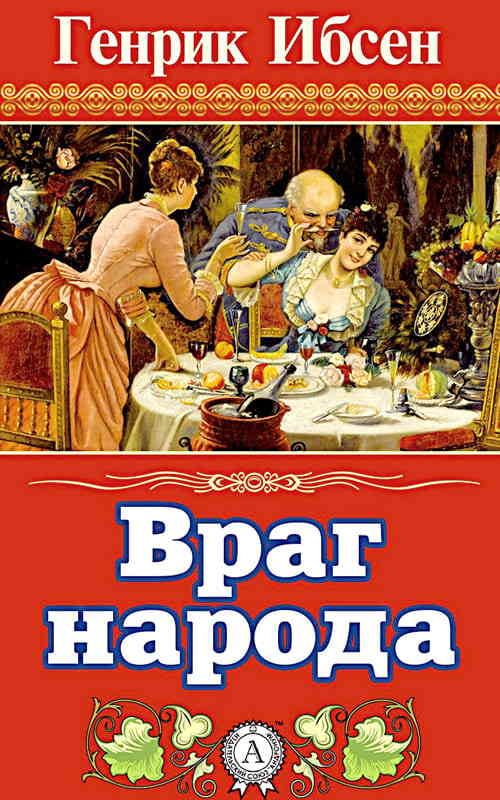 Ибсен Генрик
Ибсен Генрик