АХЕРОНТ
доверху забиты пушистым золотом, словно пробегавший тут мул Али Бабы
порастряс целые мешки цехинов. В сером небе прямо над головой полыхал
каштан; он напомнил Стефану потрескавшиеся медные лады. А вдали ржавел
лес. Стефан шел, под ногами шелестел толстенный ковер из листьев, цвет их
менялся - от желтого до коричневого, - но основой все же оставался пурпур;
это походило на разные инструментовки одной мелодии. Аллея, заворачивавшая
здесь и устремлявшаяся вниз, тлела апельсиновым жаром. Убегавшие за
горизонт фруктовые сады увядали. Ветер гнал шершавые облака листьев сквозь
кавалькады стволов. Все это многоцветье еще стояло у Стефана перед
глазами, когда он вошел в библиотеку забрать оставленную там книгу.
трубку к уху, что оно побелело. Он почти ничего не говорил. Только
поддакивал:
аптеку...
слепец, держась за стену, побрел к окну.
крапинках листьев, накатывала на окно, будто морской прилив.
раз.
сделаем... Вы пойдете, будете вроде как свидетелем. Да и мне легче будет
говорить: вы же понимаете - его магнифиценция! [титул ректора высшего
учебного заведения]
погасла.
профессору - разница громадная. Дверь обыкновенная, белая, как у всех.
Паенчковский постучал так предупредительно, что его не услышали. Он
подождал и попробовал еще раз, погромче. Стефан хотел постучать сам, но
адъюнкт опасливо оттеснил его: не умеешь, все испортишь...
вошли.
Солнце придало стенам огненный колорит. Комната, казалось, полыхала, она
напоминала пещеру льва. Старое золото горело на корешках книг, все это
походило на какую-то удивительную интарсию [вид деревянной мозаики]. Под
темным лаком буфета и полок солнце, как волшебник, высвечивало красное
дерево. Яркие пятна рябили на всех деревянных предметах в комнате, словно
на поверхности воды; искрились волосы на голове профессора, который - как
всегда, за столом, над каким-то толстым томом, в кресле, распахнутом,
будто книга, - устремил неподвижный взгляд на Пайпака и Стефана.
извиняется, знает, что помешал, но vis maior [чрезвычайные обстоятельства
(лат.)] - это важно для всех. Наконец добрался до сути дела:
вот, сегодня утром в Бежинец приехала рота немцев и
полицейских-гайдамаков. Значит, украинцев. Им ведено молчать, но кто-то
проболтался: они прибыли ликвидировать нашу больницу.
крючковатый нос: я кончил.
информации аптекаря. За него вступился Паенчковский.
господин профессор, помнит еще со времен слуги Ольгерда. Ваша
магнифиценция его не знает, он ведь человек маленький, - и Паенчковский
показал рукой, опустив ее к самому полу, какой именно маленький. - Но
человек порядочный.
верить не хочется. Но наш, то есть мой, долг состоит в том, чтобы как раз
поверить.
растерянный, он на самом деле прекрасно видел, как холодно его принимают:
профессор даже не предложил сесть. Два кресла перед столом были пусты -
два островка тени в золотистых облачках солнечных бликов. А профессор
положил свою тяжелую, узловатую руку на книгу и выжидал. Это означало, что
вся сцена представляет собой лишь интермедию, эпизод, предваряющий
действие куда более важное, смысл которого пришедшие сюда понять не в
состоянии.
начальника приставлен немецкий психиатр. Стало быть, вроде как коллега.
Доктор Тиссдорф.
сдвинул брови, словно седые молнии: "не слышал", "не знаю".
предприятие это неблагодарное - но что еще остается? Надо пойти к нему, в
Бежинец, еще сегодня, ваша магнифиценция, ибо как раз, как раз завтра... -
говорил он, и голос его набирал силу. - Немцы уведомили сегодня магистра
Петшиковского, старосту, что завтра утром им понадобится сорок человек -
дорожная повинность.
проговорил профессор, и было странно, что такой великий человек может
говорить так тихо. - Я ожидал его, быть может, не в такой форме, после
статьи Розеггера... Вы ведь помните, коллега?
Насколько я разбираюсь в этом деле, ни персоналу, ни врачам ничего не
угрожает. Ну, а больные...
того, как их надо будет произнести, профессор на сей раз не успел их
обдумать. Паенчковский внешне ничем себя не выдал, оставался таким же, как
обычно (никакой не титан, голубок да и только), но, когда он оперся о
стол, его тощая рука, рука старца, преобразилась - она больше не дрожала.
обесценивается. Времена страшные, но пока еще имя вашей магнифиценции
могло бы, словно щитом, прикрыть этот дом и спасти жизнь ста восьмидесяти
несчастных.
кто-то, не принимающий участия в дискуссии, вмешалась теперь в нее:
твердым, горизонтальным движением дала знак молчать.
нет даже в списках сотрудников, я не состою в штате, вообще нахожусь здесь
неофициально, и, как полагаю, и я, и вы, мы можем из-за этого иметь
серьезные неприятности. Однако же, если вы того пожелаете, я останусь. Что
же касается заступничества - мои заслуги, ежели таковые и есть, уже были
признаны "ими" в Варшаве; вы знаете, каким образом. Молодой, дикий ариец,
который, как вы, коллега, говорите, намеревается завтра истребить наших
больных, несомненно, получил приказ властей, каковые не считаются ни с
возрастом, ни с научным именем.
ускользавшего за стену солнца красным расплывающимся пятном сползал по
дверцам стоявшего у окна шкафа, и был этот луч таким пушистым и таким
живым, что Стефан, хотя он и следил с величайшим вниманием за разговором,
проводил его глазами. Потом голубоватая дымка, предвестница ночи, словно
прозрачная вода затопила комнату. Становилось и темнее, и печальнее, как
на сцене в хорошо отрежиссированном спектакле, когда невидимые прожектора,
меняя освещение, толкают вперед действие пьесы.
профессора, все более выпрямлялся - даже его донкихотовская бородка
затряслась. - И я думал, что вы пойдете со мной.
светом, который только что покинул комнату профессора. Вышагивая рядом с
семенившим стариком, Стефан чувствовал себя совсем маленьким. Крохотное,
сморщенное личико адъюнкта светилось гордостью.
лестничной площадке, исполосованной солнечными лучами. - А вы, коллега,




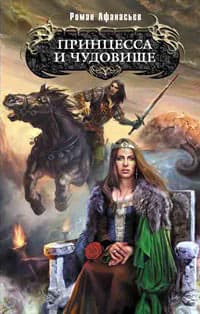

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Андреев Николай
Андреев Николай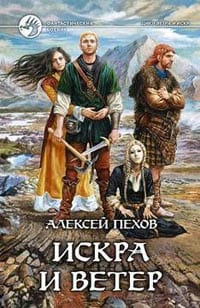 Пехов Алексей
Пехов Алексей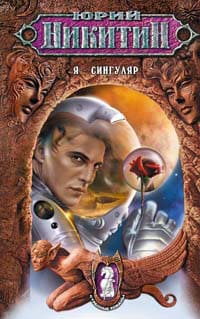 Никитин Юрий
Никитин Юрий Вронский Константин
Вронский Константин Андреев Николай
Андреев Николай