законченного безумца. В Стефане он никогда не видел ребенка. С мальчонкой,
появлявшимся в полутемной мастерской, он разговаривал как со взрослым,
причем таким, который, например, плохо слышит, и потому беседа с ним
постоянно обрывается, оба то и дело друг друга не понимают. Невзирая на
это, отец - с набитым шурупами ртом, в прожженном халате, переходя от
токарного станка к тискам, а от них снова к токарному станку, - говорил с
сыном так, словно читал лекцию, прерываясь, чтобы с головой погрузиться в
какую-нибудь операцию. А о чем он говорил? Стефан теперь и не помнил
толком, ибо, когда слушал эти речи, был слишком мал, чтобы понять их
смысл, но, кажется, говорил отец примерно так: "Того, что было и миновало,
нет, точно этого вообще никогда не было. Это вроде пирожного, которое ты
съел вчера, никакого тебе от него толка. Поэтому можно себе приделать
прошлое, которого у тебя не было: стоит в него только поверить, и будет
так, словно ты его и в самом деле прожил".
нет же - правда? Ну не мог же ты хотеть, если тебя не было? Видишь ли, я
тоже не хотел, чтобы ты родился. То есть хотел сына, но не тебя, ведь тебя
я не знал - значит, не мог и хотеть тебя... Хотел сына вообще, а ты -
реальный..."
спрашивал, но как-то (было ему лет пятнадцать) все-таки спросил, что отец
сделает, когда у него получится его изобретение? Тот нахмурился, долго
молчал, а потом ответил, что займется изобретением чего-нибудь еще.
"Зачем?" - тут же спросил Стефан. Вопрос этот, как и первый, был
продиктован глубоко скрываемой, но нарастающей с годами неприязнью к
своеобразной профессии отца, которая - это подросток знал слишком хорошо -
была предметом всеобщих издевок, и тень от отцовского чудачества падала и
на него. Старший Тшинецкий ответил подросшему сыну так: "Стефек, так
спрашивать нельзя. Видишь ли, если бы умирающего спросили, хочет ли он
прожить жизнь заново, он наверняка согласился бы и вовсе не стал
интересоваться, зачем ему жить. Так и с моей работой".
содержала мать - точнее, ее отец. Следовательно, отец был на иждивении
жены, и это до такой степени возмутило Стефана, когда он об этом узнал,
что некоторое время презирал отца. Подобные, хоть и менее сильные, чувства
питали к Тшинецкому его братья, но с годами это как-то постепенно
сгладилось: то, к чему за долгое время люди привыкают, в конце концов им
надоедает. Пани Тшинецкая любила мужа, но, к сожалению, его занятия были
выше ее понимания: супруги вели друг против друга партизанскую войну, хотя
почти и не догадывались об этом, поскольку было это противоборство
предметов, принадлежащих к двум сферам: мастерской и жилищу; отец и думать
не хотел о том, чтобы превратить квартиру в продолжение мастерской, но это
происходило как бы само собой; на столах, шкафах и секретерах вырастали
горы проволоки и металла, а мать тряслась над своими скатертями,
кружевными салфетками, рододендронами и араукариями; отец не жаловал этот
огород, исподтишка подрезал корни, тайно радуясь симптомам увядания, мать
во время генеральных уборок смахивала то какой-нибудь бесценный кабель, то
какую-нибудь незаменимую шайбу, и все это делалось без задней мысли.
Погружаясь в работу, пан Тшинецкий словно отправлялся в далекое
путешествие, а возвращался оттуда только сраженный очередным приступом
болезни. Хотя пани Тшинецкую действительно тревожили хвори супруга,
полнейшее спокойствие она обретала лишь тогда, когда муж лежал в постели,
стонущий, беспомощный, обложенный грелками, ибо тогда-то она по крайней
мере понимала, что ему нужно и что с ним происходит.
которого уже покинули родительский кров и вернулись к пережитому дню.
Рассматриваемые на холодную голову родственные узы, это хитросплетение
интересов и чувств, сплочение в дни рождений и смертей, - все это
представлялось ему никчемным и скучным. Его одолевала страсть к
обличительству, ему представлялось, будто он должен прокричать в лицо
родне жестокую правду, сказать, что вся ее будничная и праздничная возня -
пустышка, но, когда он стал подбирать слова, с которыми мог бы обратиться
к живым, мысль его коснулась дяди Лешека и замерла, словно с перепугу.
Когда это произошло, он не перестал думать, но теперь мысли его побежали
как бы сами собой, а он только следил за их бегом. Приятная усталость
растекалась по всему телу - предвестник скорого сна, - тут-то он и
вспомнил братскую могилу на сельском кладбище. Побежденная отчизна умерла,
это была метафора, но та скромная солдатская могила вовсе не была
метафорой, и что же там было еще делать, как не стоять молча, с сердцем,
замирающим от горя, но и от радости - в предвкушении общности, которая
больше, чем единичная жизнь и единичная смерть. И тут же, рядом, был дядя
Лешек. Стефан увидел его могилу, не припорошенную снегом, нагую, так ясно,
будто уже во сне. Но он не спал, и родина вдруг смешалась в его сознании с
семьей. И ту, и другую он подверг суду разума, и обе они продолжали жить в
нем самом, а может, это он жил в них, ах, ничегошеньки он уже не знал и
только, засыпая, прижал руки к сердцу, ибо ему привиделось, что порвать
связь с ними - все равно что умереть.
НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
прямо перед собой овальное зеркало на львиных лапах из позолоченного
гипса, брюхатый комод и зеленое облачко аспарагуса в простенке. Каково же
было его удивление, когда явь опровергла эти ожидания: он лежал очень
низко, почти на самом полу, в огромной комнате, незнакомой, в которой все
как будто звучно позванивало; в небольших окнах, завешенных прозрачной
бахромой сосулек, голубел рассвет - чужой, так как не было серой стены
соседнего дома.
Быстро встал, дрожа от холода, выскользнул в переднюю, отыскал на вешалке
свое пальто и, набросив его на рубашку, направился в ванную. Из
приоткрытой двери падал отблеск горящих свечей, оранжевый по контрасту с
фиолетовым светом утра, струящимся в переднюю сквозь стеклянный короб
веранды. В ванной кто-то был; Стефан узнал голос дяди Ксаверия, и ему
страсть как захотелось подслушивать. Он тут же оправдал себя ссылкой на
любознательность психолога, благо порой верил в существование некой
единственной, конечной правды о человеке, в то, что открыть ее можно,
подсматривая за людьми и ловя их с поличным, когда они остаются наедине с
собой.
прикасаясь к дверям, заглянул в щель шириной в ладонь.
клубы пара, поднимавшиеся из ванны около стены и накрывавшие призрачным
покровом фигуру дяди Ксаверия, который стоял в посконных портах и вышитой
на украинский манер сорочке и брился, корча в запотевшее зеркало
диковинные рожи, и с пафосом, но не очень разборчиво - мешала бритва -
декламировал:
дядюшка, будто почувствовав его взгляд (а может, увидав племянника в
зеркале), не оборачиваясь, сказал совершенно другим тоном:
горячая вода.
за утренний туалет торопливо, немного стесняясь присутствия дяди - тот
продолжал бриться, не обращая на него внимания. Какое-то время оба они
молчали, потом дядя вдруг выпалил:
поскольку в таких делах нельзя полагаться на одну догадливость,
переспросил:
губу, ни с того ни с сего начал:
половить, там, выше мельницы, ты знаешь. И о себе, естественно, - ни
слова. Я его прекрасно понимаю. А на обед была утка, как вчера. Только с
яблоками, теперь-то их нет. Что было, солдаты позабирали в сентябре. И он
эту утку-отказался есть, а ведь так любил всегда. И это меня как-то
насторожило. Да и лицо уже было такое. Только вот у близкого человека не
замечаешь. Мысли не допускаешь, что ли...
как это казенно прозвучало.
удовлетворение. Он стал торопливо вытираться - кое-как, он уже понял, что
последует дальше, а слушать такое голым был не в силах. Может, оттого, что
чувствовал бы себя вроде как обезоруженным? Сам он об этом и не подумал.
Ксаверий по-прежнему стоял к нему спиной, разглядывая себя в зеркале; он
пропустил вопрос Стефана мимо ушей и продолжал:
щекотку изучаю, животом его интересуюсь, у кого из нас брюхо больше и так
далее... А опухоль была уже с кулак, с места не сдвинешь, твердая,
сросшаяся со всем, черт-те что...





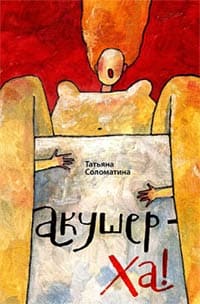
 Корнев Павел
Корнев Павел Флинт Эрик
Флинт Эрик Никитин Юрий
Никитин Юрий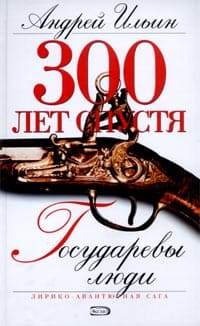 Ильин Андрей
Ильин Андрей Березин Федор
Березин Федор Афанасьев Роман
Афанасьев Роман