привычным движением водворял его на место. Вскоре это стало раздражать
Стефана. Они вполголоса перекидывались замечаниями на нейтральные темы:
закончилась ли наконец зима, как с углем, много ли работы, сколько теперь
платят. Доктор Ригер (все-таки оказался на "Р") пил мелкими глотками кофе,
выбирал оладушки поподжаристее и говорил в нос, не проявляя к беседе
особого интереса. Как-то так получилось, что, разговаривая, оба они
смотрели на Паенчковского. Этот старикан, смахивающий на недожаренного
голубя из-за своей реденькой перистой эспаньолки, сквозь серебряные прядки
которой просвечивала розовая кожица подбородка, со слегка трясущимися,
морщинистыми ручками, тщедушный и заикающийся, прихлебывал кофе, а когда
начинал говорить, порой дергал головой, словно не соглашаясь сам с собой.
же возражал себе покачиванием головы.
Он ужасно не любил старикашек, официальных представлений и скучных
разговоров, а тут получил все разом.
и продолжал возражать сам себе, мотая головой.
Страшно, но как-то симпатично безобразный, со следами швов после операции
заячьей губы, приплюснутым носом и широким ртом, он улыбался сдержанно,
бледно. Когда он положил руку на стол, Стефан подивился ее размерам и
изяществу. Стефан считал важными две вещи: форму ногтя и соотношение длины
кисти с шириной. У доктора Марглевского и то и другое свидетельствовало о
породе.
вошел; он здоровался со всеми, и его поразил тогда безжизненный холод ее
ладони, узкой и упругой. Мысль о том, что можно ласкать такую руку, и
отталкивала, и возбуждала.
обрамленное разметавшимися каштановыми волосами, отливающими, когда на них
падал свет, медом и золотом. Под чистым красивым лбом - поистине крылатый
разлет бровей, а под ними - строгие голубые глаза, в которых, казалось, то
и дело вспыхивали электрические разряды. Она была идеально красива, и
потому красота ее не бросалась в глаза сразу: ни одно пятнышко не
раздражало взгляда. В спокойствии ее было что-то материнское, как у
Афродиты, но стоило ей улыбнуться, как яркими искорками начинали улыбаться
и волосы, и глаза, и крошечная впадинка на левой щеке - не ямочка, а
игривый на нее намек.
интересная; что нет лучше призвания, чем психиатрия, хотя большинство
присутствующих, если бы только представился случай, переменили бы
специальность; что больные совершенно несносны, хотя спокойны и тихи, и
что вообще не стоит лезть из кожи вон, поскольку в психиатры идут люди
ненормальные, - следовательно, все вместе должны лечиться электрошоком, и
точка. Противоречия эти объяснялись, разумеется, различием индивидуальных
воззрений собеседников. О политике почти не вспоминали. Было тут как на
морском дне: движения ленивы и медлительны, а мощнейшие бури на
поверхности отзывались здесь какими-то новыми болезненными отклонениями,
которые облекались в форму соответствующих диагнозов. На другой день
выяснилось, что Стефан познакомился не со всеми врачами лечебницы.
Направляясь вместе с доктором Носилевской на утренний обход (его
прикрепили к женскому отделению), он встретил на вымощенной щебнем,
орошенной каплями с деревьев дорожке высокого мужнину в белом халате,
Стефан не успел его толком разглядеть, но запомнил хорошо. Его некрасивое
желтое лицо было словно вырезано из какого-то твердого материала вроде
слоновой кости, глаза прикрыты дымчатыми стеклами, нос - заостренный,
огромный; кожа губ туго, как пленка, обтягивала зубы; он напоминал мумию
Рамзеса Второго, которую Стефан видел на рисунке в какой-то книге:
аскетическая отрешенность от возраста, некая вневременность черт лица.
Морщины не свидетельствовали о прошедших годах, они были неотъемлемой
частью этого лица-изваяния. Кроме того, врач - Стефан узнал, что это
лучший хирург санатория, - был тощ, как скелет, страдал плоскостопием;
широко разбрасывая ноги, шлепая ими по грязи, он небрежно поклонился
Носилевской и взбежал на ступеньки наружной винтовой лестницы красного
павильона.
ведущую в следующий корпус. Практически все здания соединялись длинными,
остекленными сверху галереями, так что врачам, обходящим палаты, не
страшны были ни холод, ни дождь. Галереи эти походили на тамбур оранжереи,
крытый стеклом. Но стоило войти в корпус, как впечатление менялось. Все
стены выкрашены светло-голубым масляным лаком. Никаких кранов, выступов,
выключателей, дверных ручек: гладкие стены до уровня двух с половиной
метров. В палатах, холодных и светлых, с ненавязчиво зарешеченными или
затянутыми сеткой окнами, на подоконниках которых стояли в длинных ящиках
цветы, вдоль двух рядов аккуратно, почти по-военному заправленных коек,
прогуливались больные в вишневых халатах, шаркая шлепанцами на картонной
подошве.
движением, словно во сне запирала за собой дверь, затем точно так же
открывала следующую. У Стефана уже был свой ключ, но у него не получилось
бы так ловко.
распухших, похожих на гриб-дождевик, полыхавших нездоровым румянцем,
заросших щетиной. Мужчины были острижены наголо, а это стирает
индивидуальность. Не прикрытые волосами шишки и прочие диковинные изъяны
черепов своим безобразием, казалось, изгоняли с лиц всякое выражение.
Оттопыренные ужи, взгляд отсутствующий или упершийся в какой-нибудь
предмет, словно скользящий к нему по стеклянной нитке, - именно это
отличало большинство больных; по крайней мере, такое представление
складывалось во время стремительного обхода. В коридоре они встретили
санитара, который тянул за собой больного. Обращался он с ним не то чтобы
жестоко, но просто не как с человеком; однако, завидя Стефана и
Носилевскую, на миг вроде смягчился. Откуда-то издалека доносился довольно
миролюбивый рев, точно кто-то голосил не по принуждению, не от боли, а в
охотку, словно тренируясь. Впрочем, Носилевская была особой незаурядной;
Стефан еще утром понял это. За завтраком он, будучи эстетом, пытался
запечатлеть в памяти ее черты, чтобы потом можно было их мысленно
посмаковать. Тогда-то он и заметил, как она, по-лебединому склонив голову
над дымящейся кружкой, устремила взгляд в никуда - решительно в никуда - и
словно бы перестала существовать. Он, правда, видел, явственные признаки
жизни: нежную пульсацию в ямочке на шее, безмятежный сумрак зрачков,
трепет ресниц, но Стефан был уверен, что тень восторга, играющая на ее
лице, выражает испытываемое ею наслаждение оцепенением, бездумным, полным
небытием. Когда она пришла в себя и неторопливо перевела на него взгляд
своих голубых и немного еще отрешенных глаз, он готов был испугаться, а
минуту спустя отдернул ногу, когда колени их случайно соприкоснулись, -
прикосновение это показалось ему угрожающим.
Хотя не было здесь ни одной ее личной вещи, присутствие женщины
чувствовалось даже в воздухе, - впрочем, естественно, это был всего лишь
запах духов. Они сели за белый никелированный стол, Носилевская достала из
ящика истории болезни. Как и всем женщинам-врачам, ей приходилось
отказываться от маникюра, но ее коротко остриженные, закругленные ногти
были по-мальчишески прекрасны. Высоко на стене висело распятие -
маленькое, черное, придерживаемое двумя непропорционально массивными
крюками. Стефана это поразило, но надо было сосредоточиться: докторица
деловито растолковывала ему его обязанности. Голос ее подрагивал;
казалось, ей очень трудно сдерживать его, чтобы он не рассыпался трелью.
Стефан никогда еще не заносил в истории результатов наблюдений за
психическими больными: готовясь к экзамену, он, разумеется, списывал.
Узнав, что пока не придется заводить новые истории, а только продолжать
вести записи в старых, он по достоинству оценил благорасположение к нему
Носилевской - она, как и он, понимала, что вся эта писанина чертовски
скучна и нелепа, но так надо, такова традиция.
ломал себе голову: представляла ли эта элегантная женщина в чулках
"паутинка" и со вкусом скроенном белом халате (застегнутом на пуговицу из
искусственного жемчуга), как будет выглядеть эта жанровая сцена.
Носилевская позвонила, вызвав санитарку - конопатую, приземистую девицу.
фантазиях, то есть симптомах, вы понимаете, коллега, но сейчас я хочу
продемонстрировать вам часть моего царства.
но чувствовал себя паршиво, когда за ним магическим ключом одна за другой
запирались двери. Даже здесь, в кабинете, на окне темнела решетка, а в
углу, за шкафчиком с лекарствами, бесформенной кучей лежала небрежно
скомканная парусина: смирительная рубаха. Привели больную; она выглядела
дико в чересчур длинных и узких пижамных штанах. Бедра вызывающе выпирали.
На ногах - черные башмаки. Лицо - застывшая маска, но чувствовалось, от
нее можно ждать чего угодно. Она накрасилась; ее можно было посчитать даже
привлекательной. Брови начернила прямо-таки нахально - наверное, углем, -
продлив их до самых висков; вероятно, это и производило впечатление
чудаковатости, но Стефану некогда было заниматься наблюдениями, так его
шокировала первая же реплика вошедшей. На вопрос, что нового, заданный
нейтральным тоном, без тени заинтересованности, больная многообещающе
ухмыльнулась.



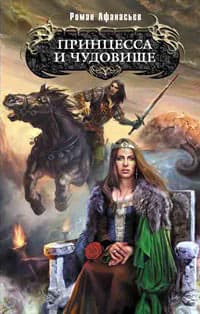


 Березин Федор
Березин Федор Бажанов Олег
Бажанов Олег Емилина Ника
Емилина Ника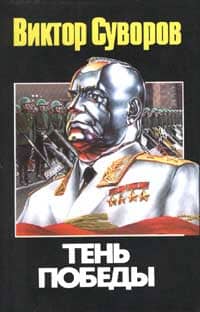 Суворов Виктор
Суворов Виктор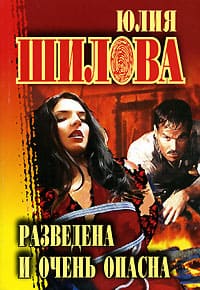 Шилова Юлия
Шилова Юлия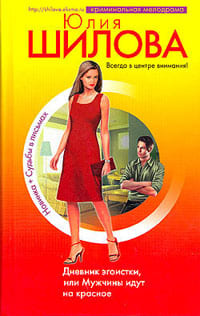 Шилова Юлия
Шилова Юлия