некрасивы, громоздки и хотя дают результаты, но очень уж неуклюжим
способом. Я подумал, что лучше всего могу поразмышлять о таких материях,
если приму предложение Комптона. Как раз о положении на этом участке
математического фронта я и собирался говорить в Нью-Гемпшире. Кому-то,
возможно, покажется странным, что я хотел учиться, преподавая, но так со
мной бывало уже не раз; лучше всего мне думается, когда возникает короткое
замыкание между мной и достаточно активной аудиторией. И еще: плохо
известные тебе работы можно читать, а можно и не читать, но к лекциям надо
готовиться обязательно, что я и делал; так что не знаю, кто больше от
этого выгадал - я или мои студенты.
вересковых зарослях, которые страшно высохли. Я питаю самые нежные чувства
к траве; мы и существуем-то благодаря ей: только после растительной
революции, которая озеленила материки, жизнь смогла утвердиться на них в
своем нерастительном облике. Впрочем, не стану утверждать, будто моя
привязанность к вереску вытекала из размышлений об эволюции.
Майкла Гротиуса. Он привез мне письмо от Айвора Белойна вместе с секретным
устным посланием.
стены которого были увиты слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей
душноватой комнате (в старой постройке не было кондиционеров), я узнал от
невысокого, тихого, хрупкого, как китайский фарфор, молодого человека с
черной бородкой полумесяцем, что на землю снизошла весть - и пока не ясно,
добрая или дурная, поскольку, несмотря на двенадцатимесячные старания,
расшифровать ее не удалось.
ни словом, я понял, что исследования находятся под опекой - или, если
угодно, надзором - очень важных персон. Иначе как могли бы слухи о работах
такого масштаба не просочиться в печать? Ясно было, что такому
просачиванию препятствуют первоклассные специалисты.
игроком. Не зная заранее, соглашусь ли я на участие в Проекте, он не мог
вдаваться в подробности. Надлежало сыграть на моем самолюбии, подчеркивая,
что две с половиной тысячи человек в качестве потенциального спасителя
выбрали - из всех остальных четырех миллиардов - именно меня, но и тут
Гротиус сумел найти меру, избегая слишком грубых комплиментов.
удовольствием. В таком случае я - исключение из общего правила, потому что
похвал никогда не ценил. Хвалить можно - скажем так - сверху вниз, но не
снизу вверх, а я хорошо знаю себе цену. Гротиус либо был предупрежден
Белойном, либо просто отличался хорошим чутьем. Он говорил много, отвечал
на мои вопросы по видимости исчерпывающе, но все, что я узнал от него,
уместилось бы на двух страничках.
понимая это, упомянул в письме о своей личной беседе с президентом: тот
заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за
исключением информации, способной нанести ущерб нашим государственным
интересам. Получалось, что, по мнению Пентагона - во всяком случае, той
его службы, которая взяла Проект под свое крыло, - звездное Послание
содержит нечто вроде сверхбомбы или еще какого-нибудь "абсолютного
оружия"; мысль достаточно странная и дающая представление скорее о
настроениях наших политиков, чем о галактических цивилизациях.
вереска и там улегся на солнцепеке, чтобы поразмыслить. Ни Гротиус, ни
Белойн (в своем письме) и не заикались, что от меня потребуют какого-то
обещания, а то и присяги о неразглашении тайны, но такой "обряд
посвящения" в Проект подразумевался сам собой.
заостренная, прямо-таки классический образец. Легче всего соблюсти чистоту
рук, уподобившись страусу или Пилату, и не вмешиваться в любые дела,
которые - хотя бы самым косвенным образом - помогают совершенствовать
средства уничтожения. Но то, чего не хотим делать мы, всегда сделают за
нас другие. Говорят, что с точки зрения этики это не аргумент. Согласен.
Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, все же
соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то
повлиять на ход событий, пусть даже надежда на успех минимальна; а если
его заменит человек не столь щепетильный, не на что уже и надеяться.
соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и
- вероятно - грозное, я предпочитаю быть именно там, а не ожидать развития
событий - с чистой совестью и пустыми руками. Да и не мог я поверить, что
цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, послала нам информацию,
которую можно обратить в оружие. Если сотрудники Проекта думали иначе -
это их дело. И наконец, возможность, вдруг открывшаяся передо мной,
превосходила все, что еще могло мне встретиться в жизни.
поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий
механизм. Мы летели еще часа два - почти все время над южной пустыней.
Гротиус прилагал все старания, чтобы я не чувствовал себя как только что
завербованный участник гангстерской шайки, и поэтому не лез ко мне с
разговорами, не пытался лихорадочно посвящать меня в мрачные тайны,
ожидавшие нас у цели.
пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели
на плоскую крышу здания, самого высокого в поселке. Этот комплекс
массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Он был
построен еще в пятидесятые годы как жилой и технический центр нового
атомного полигона (прежние устаревали с возрастанием мощности взрывов:
даже в далеком Лас-Вегасе после каждого серьезного испытания вылетали
оконные стекла). Полигон располагался в центре пустыни, милях в тридцати
от поселка, снабженного системой защиты от взрывной волны и радиоактивных
осадков.
пустыни, - для гашения ударной волны. Здания были без окон, с двойными
стенами, пространство между которыми, кажется, заполнялось водой.
Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным постройкам придали
округлые формы и расположили их так, чтобы избежать кумуляции силы удара
из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны.
строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий
завинтили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и
оборудование погрузили в контейнеры с тавотом и убрали под землю (ниже
уровня улиц располагались склады и магазины, а еще ниже проходила
подземка). Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и потому в
Пентагоне решили разместить Проект именно здесь; заодно сэкономили сотни
миллионов долларов - не вбухали в сталь и бетон.
поначалу было много работы с очисткой; вдобавок оказалось, что система
водоснабжения не действует, так как снизился уровень подпочвенных вод.
Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили
на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая
понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом.
служила главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы
виделись два года назад в Вашингтоне. Из тела Белойна удалось бы выкроить
двух человек, а из его души - даже и четырех. Белойн был и, вероятно,
останется чем-то большим, нежели его достижения; очень редко случается
видеть, чтобы в человеке столь одаренном все кони тянули так ровно и
дружно. Чем-то он походил на Фому Аквинского (который, как известно, не во
всякую дверь пролезал), а чем-то - на молодого Ашшурбанипала (только без
бороды) и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но
я подозреваю, что он произвел над собой ту же психокосметическую операцию
(только на ином основании и, вероятно, более радикальную), о которой я
упоминал в предисловии, говоря о себе. Не приемля (повторяю, это только
моя гипотеза) своего духовного и внешнего облика - облика не уверенного в
себе толстяка, - Белойн усвоил манеру, которую я бы назвал обращенной на
себя самого иронией. Он все произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой
искусственностью и претенциозностью (которую еще усиливала манера его
речи), словно играл - поочередно или одновременно - сочиняемые им для
данного случая роли, и этим сбивал с толку каждого, кто не знал его
хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда
говорит серьезно, а когда потешается над собеседником.
высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог
и над самим собой издеваться без удержу, и этот трюк - не слишком хитрый,
зато отработанный безупречно - обеспечивал ему редкостную неуязвимость.
укреплений, что даже те, кто знал его многие годы (и я в том числе), не
умели предвидеть его реакции; думаю, он специально об этом заботился, и
все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией,
делалось им не без тайного умысла.
мне завидовать; то и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал,
что ему, филологу и гуманитарию, математика ни к чему, и, будучи натурой
возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем
втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт, столкнулся с
модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он
очутился на моей территории и, понимая, что здесь я сильнее, сумел это
выразить так ловко, что, по существу, высмеял и меня, и математику. Не






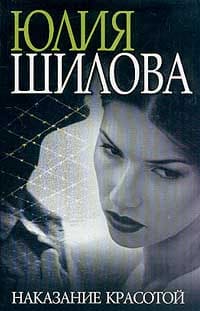 Шилова Юлия
Шилова Юлия Андреев Николай
Андреев Николай Сертаков Виталий
Сертаков Виталий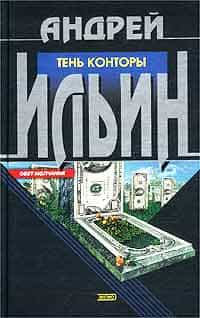 Ильин Андрей
Ильин Андрей Маккарти Кормак
Маккарти Кормак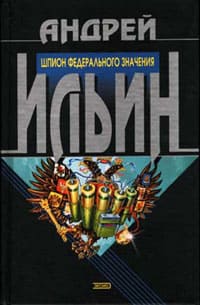 Ильин Андрей
Ильин Андрей