энергия передатчиков. Засекреченность Проекта казалась преступной перед
лицом такой грандиозной картины. Перед нами предстало не просто открытие
(или даже горы открытий) - нам раскрывали глаза на мир. До сих пор мы были
слепыми щенками. А во мраке Галактики сиял разум, который не пытался
навязать нам свое присутствие, напротив, всячески скрывал его от
непосвященных.
моде. Их создатели метались между двумя полюсами: между пессимизмом
(дескать. Молчание Вселенной - ее естественное состояние) и бездумным
оптимизмом (дескать, космические известия передаются четко, по складам,
словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер
дошкольников). Разрушен еще один миф, думал я, и еще одна истина взошла
над нами; и, как обычно при встрече с истиной, мы оказались не на высоте.
отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но целое он охватить
не способен. Мы были в сходном положении. Ребенка могут заворожить
какие-то фразы; так и мы дивились крохотной частичке того, что
расшифровали. Я так долго корпел над Посланием, так часто возобновлял
попытки его разгадать, что на свой лад сжился с ним и не однажды,
чувствуя, что оно высится надо мной, как гора, смутно различал великолепие
его конструкции - математическое восприятие сменялось эстетическим, а
может, сливалось с ним.
вступает в сцепление с другими, предыдущими и последующими. Из этого
взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений и
возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае
звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о
назначении его элементов-"псевдофраз". Этого назначения я не мог
постигнуть, но Послание, несомненно, обладало той внутренней, чисто
математической гармонией, которую в величественном соборе может уловить
даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики, ни
архитектурных канонов, ни стилей, воплощенных в формы собора. Именно так я
смотрел на Послание - и поражался. Этот текст был необычен уже тем, что не
имел никаких "чисто локальных" признаков. Замковый камень, вынутый из
арки, из-под тяжести, которую он предназначен нести, становится просто
камнем, - вот пример нелокальности в архитектуре. Синтез Лягушачьей Икры
стал возможен как раз потому, что мы выдернули из сигнала отдельные
"кирпичики" и произвольно наделили их атомными и стереохимическими
"значениями".
взамен руководства по разделке китов и вытапливанию китового жира. Можно и
так поступать - бойня китов "вписана" в "Моби Дика", и, хотя смысл ее там
диаметрально противоположен, этим можно и пренебречь - разрезать текст на
кусочки и перетасовать их. Неужели сигнал, несмотря на всю мудрость
Отправителей, был настолько беззащитен? Вскоре мне было суждено убедиться,
что дело, пожалуй, обстоит еще хуже; мои опасения получили новую пищу, -
вот почему я не отрекаюсь от этих сентиментальных раздумий.
точно слова в фразах, но различное соседство порождало небольшие различия
в расположении импульсов, а это не было учтено нашей "двоичной"
информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые как-никак могли
ссылаться на сокровища, замкнутые в их "серебряных подземельях", упорно
твердили, что это искажения, вызванные многопарсековым странствием
нейтринных потоков, результат десинхронизации (впрочем, ничтожной для
подобных масштабов), размазывания сигнала. Я решил это проверить.
Потребовал вновь провести регистрацию сигнала или хотя бы его значительной
части и тщательно сопоставил полученный текст с теми же фрагментами пяти
независимых записей, сделанных ранее.
подлинность чьей-то подписи и применяя все более сильные лупы, мы в конце
концов видим, как чудовищно увеличенные полоски - чернильные контуры букв
- распадаются на элементы, разбросанные по обособленным, толстым, как
конопляный канат, волокнам целлюлозы, и невозможно установить, где та
граница увеличения, после которой в формах письма перестает ощущаться
влияние пишущего, его "характер", а начинается область действия
статистических законов, микроскопических подрагиваний руки, пера,
неравномерности отекания чернил, - законов, над которыми пишущий уже
совершенно не властен. Цели можно достичь, сравнивая ряд подписей - именно
ряд, а не две подписи; только тогда обнаружатся их устойчивые черты, не
подверженные ежесекундным флуктуациям.
"десинхронизация" сигнала существует только в воображении моих оппонентов.
Точность повторения соответствовала пределу разрешающей силы нашей
аппаратуры. А так как вряд ли Отправитель рассчитывал на аппаратуру именно
с такой калибровкой, стабильность сигнала, несомненно, превосходила наши
исследовательские средства.
Господним" либо "вопиющим в пустыне", и под конец сентября я работал,
окруженный все возрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам,
когда между моим внесловесным мышлением и Посланием возникало такое
родство, словно я постиг его почти целиком; замирая, словно перед
бесплотным прыжком, я уже ощущал близость другого берега, но на последнее
усилие меня не хватало.
легче признать, что дело тут было не во мне, что задача превышала силы
каждого человека. А между тем я считал - и продолжаю считать, - что ее
невозможно одолеть коллективной атакой; взять барьер должен был кто-то
один, отбросив заученные навыки мышления, - кто-то один или никто. Такое
признание собственного бессилия выглядит жалко - и эгоистично, быть может.
Словно бы я ищу оправданий. Но если где и надо отбросить самолюбие,
амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, - так
именно в этом случае. Ощущение изоляции, отчуждения угнетало тогда меня.
Удивительнее всего, что мое поражение, при всей его очевидности, оставило
в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, те недели - сегодня,
когда я о них вспоминаю, - мне дороги. Не думал, что со мною случится
такое.
12
говорится вообще) о моем более "конструктивном" вкладе в Проект. Во
избежание возможных недоразумений предпочитают умалчивать о моем участии в
"оппозиции конспираторов", которая, как я прочитал однажды, могла стать
"величайшим преступлением", и не моя заслуга, что этого удалось избежать.
Итак, перехожу к описанию своего преступления.
ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не
выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему
холодно, отправлялся на короткие прогулки, стараясь не терять из виду
здания-башни поселка: меня предупредили, что в пустыне, среди высоких дюн
легко заблудиться. И однажды какой-то инженер действительно заблудился, но
около полуночи вернулся в поселок, отыскав направление по зареву
электрических огней. Я раньше не знал пустыни; она была совсем не похожа
на то, что я представлял себе по книгам и фильмам, - абсолютно
однообразная и поразительно многоликая. Особенно зачаровывало меня зрелище
движущихся дюн, этих огромных медлительных волн; их строгая великолепная
геометрия воплощала в себе совершенство решений, которые принимает Природа
в мертвых своих владениях - там, куда не вторгается цепкая, назойливая, а
временами яростная стихия биосферы.
выяснилось, не случайно. Протеро, потомок старинного корну эльского рода,
даже во втором поколении был англичанином больше, чем кто-либо из знакомых
мне американцев.
одним столом с беспокойным Раппопортом и рекламно-элегантным Ини, Протеро
выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Воплощенная
усредненность: обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное
лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах,
бесстрастный голос, ненапускное спокойствие, никакой подчеркнутой
жестикуляции - только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при
всем том - первоклассный ум.
человеческое совершенство, а людей, лишенных всяких чудачеств, заскоков,
странностей, хотя бы намека на какую-то манию, на какой-то собственный
пунктик, подозреваю в неискренности (каждый ведь судит по себе) - или в
бесцветности. Конечно, многое зависит от того, с какой стороны узнаешь
человека. Если сначала знакомишься с кем-то по его научным работам (крайне
абстрактным в моем ремесле), то есть с предельно одухотворенной стороны,
то столкновение с грубой телесностью вместо платоновской чистой идеи
оказывается для тебя потрясением.
ковыряет в ухе, лучше или хуже управляя сложной машиной своего тела
(которое, давая духу пристанище, так часто духу мешает), неизменно
доставляло мне какое-то иконоборческое, приправленное злорадным сарказмом
удовлетворение.
тяготевший к солипсизму, и вдруг спустило колесо. Прервав рассуждение о
феерии иллюзий, какой является всякое бытие, он совершенно обыкновенно,




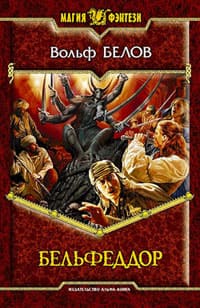
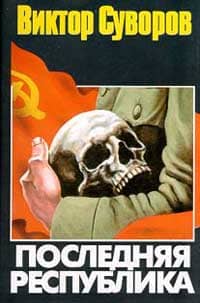
 Беляев Александр
Беляев Александр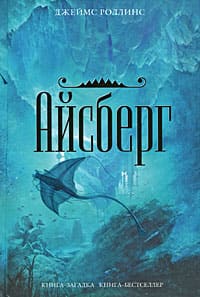 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Никитин Юрий
Никитин Юрий Панов Вадим
Панов Вадим Никитин Юрий
Никитин Юрий Пехов Алексей
Пехов Алексей