физике куда меньше, чем в антропологии. Мы охотно принимаем
непротиворечивую и подтвержденную опытом статистическую модель атомного
ядра. Мы не спрашиваем: "Ну, а как все-таки атомы ведут себя на самом,
деле!" - но в науках о человеке нас такой подход не устраивает.
добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от
расположения двух-трех пучков волокон серого вещества мозга и неосторожное
движение ланцета, задевшего эти волокна чуть выше глазных впадин, способно
превратить человека великой души в тупое животное. Но целые области
антропологии - не говоря уж о философии - просто не принимают этого к
сведению! Да и сам я не составляю тут исключения; все мы - ученые и
профаны, - скрепя сердце, готовы признать, что наши тела с возрастом
портятся; но дух?! Нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в
котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным
знаком, совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского
объяснения, что человек есть игралище сил, абсолютно к нему равнодушных. А
так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я
признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших
выдающихся антропологов. "Удовлетворение, с которым ты говоришь о своем
доказательстве "лотерейности" природы человека, - заметил он мне, - не
вполне бескорыстно; тут не одна только радость познания, а еще и
удовольствие поглумиться над тем, что другому любезно и мило".
мысли, что таких работ на свете, должно быть, немало. Залежи потенциальных
открытий громоздятся на полках библиотек - в ожидании тех, кто мог бы их
оценить.
простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное
служит ей тылом. Но по сути, безразлично, таится ли неведомое в лоне
природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ, - то,
что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно что
не существует. В любую эпоху способность науки воспринять радикально новый
подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного
из создателей термодинамики - лишь один из примеров тому [имеется в виду
самоубийство Л.Больцмана (1844-1906)].
ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди
которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого
разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонов методологии. Я завел об
этом речь не случайно.
собственных рамках, но в стороне от главного русла, хотя и творцы, и
отрицатели новых подходов - дети одного времени. Так можно ли
рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще
отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек,
которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и
тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои
суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а
поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль experimentum crucis
[решающий эксперимент (лат.)], стало доказательством нашей беспомощности -
и этого результата не пожелали заметить! Миф об универсальности нашего
познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную,
внеземного происхождения информацию остался непоколебимым, хотя, получив
Послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который,
согревшись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно
использовал свою находку.
небесполезным - хотя бы для будущего исследователя Первого Контакта. Ведь
опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых
успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О
гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, в реляциях не сказано почти
ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если б в
конечном счете исследование отделилось от исследователей. Изучающих физику
не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы,
какие ложные допущения предлагали ее творцы, как долго искал и заблуждался
Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, сколько неверных
идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных "дыр".
Но история проекта "Глас Господа" - это история поражения, история
блужданий, за которыми не последовало спрямления дороги, и мы не вправе
пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути - кроме них, у нас
ничего не осталось.
эта. Дольше я ждать не могу - по причинам чисто биологическим. Я
располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации
Проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет понятно из
дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать
себя за счет своих товарищей по Проекту. Мы очутились у подножия
колоссальной находки, до предела не подготовленные и до предела
самоуверенные. Как муравьи, мы облепили ее - быстро, жадно, ловко и
сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья.
2
очернил себя с умыслом - чтобы выступить потом в роли бесцеремонного
правдолюбца; ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, раз
уж я и себя не жалею. Это было сказано полушутя, но заставило меня
задуматься. Такой коварный замысел мне и в голову не приходил; но я
достаточно разбираюсь в душевной механике и понимаю, что подобные
отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо.
Возможно, мной руководила подсознательная хитрость: свою злобность я
показал во всем ее безобразии, локализовал ее, стало быть, провел черту
между нею и мною - но лишь на словах.
это время водила моим пером, и я лицемерил, как проповедник, который,
громя прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть
говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все
становится с ног на голову и то, что я считал печальной необходимостью,
продиктованной требованиями темы, оказывается главным побудительным
мотивом, а сама тема, "Глас Господа", - не более чем удачным предлогом.
Впрочем, схему подобного рассуждения - скажем так, "карусельного": ведь
оно образует замкнутый круг, где посылки и выводы меняются местами, -
можно перенести и на саму проблематику Проекта. Наше мышление должно иметь
дело с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и
корректирует; а если такого корректора нет, оно грозит обернуться
проецированием тайных пороков (или добродетелей, что одно и то же) на
предмет исследования. Объяснение философских систем через различного рода
недуги их творцов считается (я кое-что знаю об этом) занятием столь же
тривиальным, сколь и непозволительным. Но где-то на самом дне философии,
которая постоянно пытается сказать больше, чем возможно в данное время,
"поймать мир" в готовую сетку понятий, прячется трогательная
беззащитность, особенно заметная как раз у наиболее ярких мыслителей.
бесконечность, а философия пытается до этого предела добраться одним
прыжком, коротким замыканием, дающим уверенность в совершенном и
непоколебимом знании. Тем временем наука движется мелким шагом,
по-черепашьи, а то и вовсе, казалось бы, топчется на месте, но в конце
концов добирается до последних рубежей, до окончательной границы разума,
проведенной философами, и, не замечая никаких пограничных столбов,
преспокойно идет себе дальше.
отчаяния был позитивизм с его весьма специфической агрессивностью: он
выдавал себя за верного союзника науки, будучи, в сущности, ее
ликвидатором. Надлежало подвергнуть примерному наказанию все то, что
разъедало и подтачивало философию, обращая в ничто ее великие открытия, -
и позитивизм, этот мнимый поборник науки, не замедлил вынести ей приговор,
заявив, что наука в действительности ничего не может открыть, ведь она -
всего лишь сокращенная запись опыта. Позитивизм попытался осадить науку,
заставив ее признать свое бессилие во всем, что относится к области
трансцендентного (что ему, впрочем, так и не удалось).
она стремилась открыть абсолютные категорий мироздания, потом - абсолютные
категории разума, а тем временем, по мере накопления знаний, все яснее
замечалась ее беспомощность. Ведь каждый философ поневоле объявлял себя
самого абсолютным образцом человеческого рода "и даже всех возможных
разумных существ. Напротив, наука - это как раз трансценденция опыта,
сокрушающая в прах вчерашние категории мышления; вчера пало абсолютное
пространство и время, сегодня рушится якобы вечная противоположность между
аналитическими и синтетическими суждениями, между предопределенностью и
случайностью. Но почему-то ни одному из философов не приходило в голову,
что не слишком благоразумно выводить из правил собственного мышления
законы, действительные для всех людей и всего человечества - от эолита до
эпохи угасания солнц.
искомой общечеловеческой нормы - значит поступать безответственно.
Стремление понять "все", на которое при этом ссылаются, имеет разве что
психологическую ценность. Поэтому философия гораздо больше говорит о
людских надеждах, страхах, влечениях, чем о тайнах абсолютно равнодушного



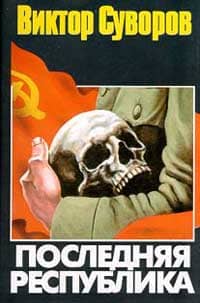
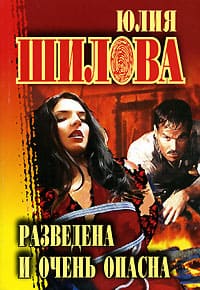

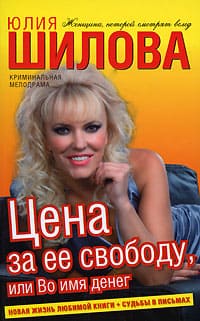 Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена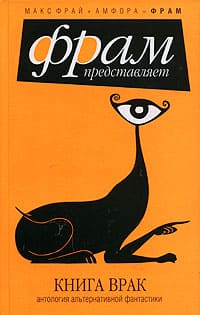 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шекли Роберт
Шекли Роберт Прозоров Александр
Прозоров Александр