некогда стана, и корпус погружался мало-помалу в грязную глину. А он как
раз со вниманием и любовью новые созвездья развешивал в вечном мраке
сознания своего, что служило ему целым Гозмозом, и, как умел, бескорыстно
старался все созданное его помышлением в памяти удержать; и хотя болела от
этого голова, он не сдавался, ибо чувствовал, что нужен своему Гозмозу и
всерьез за него отвечает. Тем временем ржавчина прогрызала верхнюю его
жесть, о чем он, понятно, не знал, а донный черепок Трурлева горшка (того
самого, что дал ему жизнь тысячелетья назад), колыхаясь на грязной волне,
понемногу приближался к Далдаю, который одним лишь несчастным лбом еще
высовывался из лужи. И как раз в ту минуту, когда Далдай пригрезил себе
кроткую прозрачно-стеклянную Бавкиду и верного ее Ондрагора, что
странствовали средь темных солнц воображения его при всеобщем молчании
народов гозмозовых, включая моленцев, и тихо меж собою перекликались, -
проржавевший череп лопнул от легкого удара горшка, сдвинутого порывом
ветра, хлынула жижа коричневая в сердцевину медных витков и погасила
электричество логических контуров, и обратился Гозмоз Далдаев в небытие,
совершеннее которого ничего нет. А те, что ему положили начало и целому
скопищу миров заодно, никогда не узнали об этом.
меланхолически и глубоко, так что пирующие стали даже на Трурля коситься:
мол, зачем опечалил ум государев такой историей? Король, однако, вдруг
улыбнулся и спросил:
историю удивительную и бездонную о Хлориане Теоретии, двухименном
Ляпостоле, интеллектрике и мыслянте мамонском.
трудов (он смастерил для короля Гробомила Машину, Которой Не Было, - но
это особая история), попал на планету мамонидов и слонялся по ней туда и
сюда, ища одиночества, пока не увидел на самом краю лесной чащи избушку,
заросшую диким кибарбарисом; а над избушкой поднимался дымок. Хотел он ее
обойти, однако, заметив стоящие у стены пустые бочки из-под чернил и видом
таковым изумленный, заглянул внутрь. За столом, сделанным из валуна, на
втором валуне, поменьше, который служил табуретом, сидел старец, до того
закопченный, заржавелый, залатанный, что просто не верилось. На лбу у него
имелось множество вмятин, глаза обращались в глазницах с великим скрипом,
да и члены скрипели, несмазанные, и на одних лишь проволочках да
веревочках держалась в нем кое-какая жизнь, которую он на ужасном вел
безамперье, о чем без слов говорили разбросанные там и сям куски янтаря;
потиранием оных несчастный добывал животворный ток! При виде такой нищеты
сердце у сердобольного Клапауция оборвалось, и он уже потихоньку потянулся
за кошельком, как вдруг старец, лишь теперь углядевший его своим
помутнелым оком, пискливо заголосил:
там, где он и быть-то не собирался.
зашелся ужасным визгом старик и начал швырять в остолбеневшего Клапауция
всем, что было у него под рукой, то есть, по большей части, всяческой
рухлядью. Когда же он притомился и швырять перестал, бомбардируемый
принялся деликатно выспрашивать, чему он обязан таким приемом. Старец,
правда, временами еще огрызался: "А чтоб тебя накоротко замкнуло! Чтоб
тебя навеки заело, мержавчик!" - однако ж немного погодя поостыл и
позволил умилостивить себя настолько, что, подняв назидательно палец,
посапывая, ругаясь время от времени и часто искря, отчего в избушке озоном
пованивало, такими словами свою историю рассказал:
занимающийся по призванию, а имя мое (блеск которого затмит когда-нибудь
звезды) - Хлориан Теоретии Ляпостол. Родился я от бедных родителей и
сызмальства чувствовал тягу к мышлению, исследующему бытие; а шестнадцати
лет написал первый свой труд под названием "Боготрон". Это общая теория
апостериорных божеств, каковые божества потому должны быть встроены в
Космос высшими цивилизациями, что, как известно, материя первична и в
самом начале никто не мыслит. Значит, на заре мироздания безмыслие царило
полнейшее; и впрямь, погляди-ка на этот Космос - ничего себе вид!! - Здесь
задохнулся от гнева старец, затопал, а затем, ослабев, продолжал: - Я
объяснил тебе необходимость приделывания богов задним числом, раз уж
передним их не было; и всякая цивилизация, занимающаяся интеллектрикой,
ведет дело прямехонько к построению Абсолютного Всемогутора, или
ректификатора зла, то бишь выпрямителя путей Разума. В этом труде я
поместил и план первого Боготрона, а также характеристику его мощности,
измеряемой в богонах - единицах всемогущества; один богон соответствует
чудотворению в радиусе миллиарда парсеков. Когда сей труд был напечатан
моим иждивением, я выбежал поскорее на улицу в полной уверенности, что
народ немедля меня на руках понесет, увенчает цветами, осыплет золотом;
куда там - хоть бы киберняга какая меня похвалила! Скорее изумленный этим,
нежели разочарованный, я тотчас сел и написал "Бичевание Разума" в двух
томах, где разъяснил, что перед каждой цивилизацией имеются два пути, а
именно - либо себя самое замучить, либо до смерти заласкать. То либо
другое она совершает, пожирая мало-помалу Космос и перерабатывая остатки
звезд в унитазы, колесики, шестеренки, портсигары и подушечки-думки, а
происходит так оттого, что, не умея Космос понять, она норовит все
Непонятное как-нибудь переиначить в Понятное и не унимается, пока
туманности в клоаки не переделает, а планеты в диваны и бомбы,
руководствуясь при этом Высшей Идеей Порядка, ибо лишь Космос
заасфальтированный, канализированный и каталогизированный кажется ей в
меру пристойным. Во втором же томе, названном "Advocatus Materiae"
["адвокат материи" (лат.)], я объяснил, что Разуму по причине его
ненасытности лишь тогда хорошо, когда удается какой-нибудь гейзер
космический поработить или атомный рой приневолить к изготовлению мази
против веснушек, после чего он не мешкая набрасывается на следующий
феномен, дабы и этот трофей приторочить к поясу средь прочей сциентистской
добычи. Когда же и эти два тома великолепных мир молчанием встретил, я
сказал себе, что главное - терпение и упорство. А потому после защиты
Мирозданья от Разума, который я вывернул наизнанку, а также Разума от
Мирозданья, которого безвинность в том состоит, что Материя единственно от
безмыслия своего на паскудства всяческие горазда, по внезапному
вдохновению написал я "Закройщика Бытия", где логически доказал, что споры
философов - дело бессмысленное, ибо каждый должен иметь философию
собственную, скроенную, как и штаны, по мерке. Поскольку же и этот трактат
канул в глухое безмолвие, я тотчас сочинил следующий и в нем изложил все
мыслимые гипотезы относительно Космоса: первую, согласно которой нет его
вовсе; вторую, что это следствие промахов некоего Творилы, который пытался
мир сотворить, ни черта в этом деле не смысля; третью, что мирозданье есть
бред какого-то Сверхмозга, который на почве себя самого взбесился
бесконечным манером; четвертую, что это бездарно материализованная мысль;
пятую, что это по-идиотски мыслящая материя, - и, уверенный в себе, ожидал
жестоких со мною споров, шумихи, укоров, восхищения, лавров, наконец,
нападок и анафем; однако ж опять ровным счетом ничего не случилось. Тут
изумлению моему не было границ. Я подумал, что, может быть, слишком мало
изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писания, изучил по очереди
знаменитейших, как-то: Френезиуса Четку, Бульфона Струнцеля, основателя
школы струнцлистов, Турбулеона Кратафалка, Сфериция Логара и самого
Лемюэля Лысого.
труды расходились мало-помалу, значит, думалось мне, кто-то их все же
читает, а раз читает, результат не замедлит сказаться. Я, в частности, не
сомневался, что меня призовет Тиран и потребует, чтобы я занялся им самим
как главнейшей темой и хвалу бы ему возглашал. Я даже в точности обдумал,
что отвечу ему: мол, Истина для меня все и ради нее я жизнь готов
положить; Тиран же, алкая похвал, которые мог бы измыслить блестящий ум
мой, попробует приманить меня медом своих милостей и бросит к моим ногам
звенящие кошельки, а видя мою непреклонность, скажет по наущенью софистов,
что-де, раз уж я занимаюсь Космосом, стоило бы и им заняться - ведь в
некотором роде и он частица Космоса. Я же в лицо ему издевку швырну и буду
выдан на муки; а потому заранее закалял тело, дабы жесточайшие истязания
выдержать. Но дни проходили и месяцы, а Тиран - ничего; выходит, и к мукам
зря я себя готовил. Лишь какой-то бумагомарака по имени Дубомил написал в
бульварном листке, что баламут Хлориашка бредит безбожной белибердой в
книжонке, озаглавленной "Босотрон, или Абсолютный Всегомутор". Я бросился
к трудам своим - и точно, по недосмотру печатника на титуле были
перепутаны буквы... Сперва я хотел побить негодяя, но рассудок взял верх.
"Придет еще мое время! - сказал я себе. - Не может этого быть, чтобы
кто-то, словно горох, сыпал день и ночь абсолютные истины, слепящие
блеском Окончательного Познания, - и все напрасно! Придет известность,
придет слава, трон из слоновой кости, титул Мыслянина Первого, поклоненье
народов, отдохновенье под сенью сада, собственная школа, любящие ученики и
восторженные толпы!" Ибо как раз такие мечты лелеет любой из мыслянтов, о
чужеземец! Говорят, конечно, будто голод они утоляют одним лишь Познанием,
а жажду - Истиной; ни благ земных не желают, ни ласк электриток, ни
звонкого злата, ни орденских звезд, ни хвалы, ни славы. Все это сказки,
почтенный мой чужестранец! Все желают одного и того же, с той только
разницей, что я, по огромности моего духа, в этих слабостях признаюсь
открыто и без стесненья. Но годы текли, а меня иначе, как Хлорианчик,
баламут Хлориашка, никто не называл. Наступила сороковая годовщина моего
рождения, и снова я удивился тому, до чего же долго заставляет ожидать





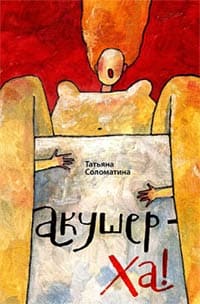
 Корнев Павел
Корнев Павел Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий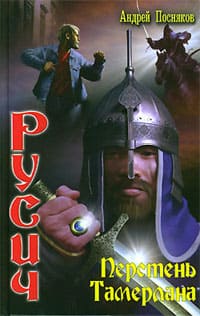 Посняков Андрей
Посняков Андрей