не по авторству, а по праву единственного теперь владельца, - не знала
ничего. Она была человеком из моего времени, потому что была так странно,
до мелочей похожа на ту девушку, которая наверняка числилась среди ее
предков. Мне не надо было преодолевать барьер несовместимости,
существовавший - хотели мы того или не хотели - между каждым из нас - и
людьми современности, каждым из нас - и людьми этой планеты, каждым из нас
- и каждым из нас. Тут этого барьера не было; и она была очень молода,
Анна, слишком, может быть, молода для меня - но значит, у нее было время
для того, чтобы перенять от меня то, что нужно было, чтобы стать моей
спутницей во времени, чтобы я не один был здесь, а чтобы нас было двое.
Двое - великое дело, и не зря в древности в языке, на котором я говорил
там, дома, существовало даже особое двойственное число, помимо
единственного и множественного. Я хотел быть вдвоем; знал, что хорошо дуть
на раскаленные уголья, когда их много: они разгорятся и передадут огонь
всему остальному. Хорошо дуть в костер; но нельзя дуть на свечку - она не
разгорится, она погаснет. И нельзя дуть на спичку, ее не раздуешь. Надо
подождать, пока она передаст свой огонь другому, серьезному топливу.
по-настоящему. Хотя знал, что ее глазу и ее ощущениям спичка может
показаться костром: как-никак, даже спичка может обжечь, а в ней горела
спичка; но на спичке не сгоришь, и я это знал, а она - нет.
сказать, что бродило во мне, кипело, рвалось наружу. Наверное, я
неправильно понимал жизнь; мне казалось, что все неправильно - одна ночь
между двумя странными днями, когда ты не знаешь, что будет завтра, где ты
окажешься, какие обстоятельства и как заставят тебя действовать; мне
казалось, что нельзя в такую ночь говорить о любви - потому что ты ничего
не сможешь пообещать, не сможешь быть честным до конца; мне казалось, что
сначала нужно справиться со всем остальным, оттереть жизнь до прозрачности
горного хрусталя, сделать ее крепкой и надежной, как двухпудовая гиря, - и
только тогда говорить о том, что такое она для тебя - все, она для тебя
все, и ты ложишься и встаешь с мыслями и чувствами о ней, с хорошими
мыслями и чувствами, что ты уже не можешь думать, красива она или нет,
добра или зла, умна или не очень, - все это не важно, таких категорий
больше не существует, она достигает в твоем сознании уровня матери:
матерей не обсуждают... Только тогда можно говорить о том, что я хочу быть
для нее всем - ее ветром и солнцем, словом и мыслью, книгой и зеркалом;
что она для меня - вся материя мира и вся пустота его, которую я должен
заполнить до конца, и вся удивительная простота и сложность Вселенной, и
цель жизни, и ее оправдание, и содержание... Только тогда, казалось мне,
будет у меня право говорить об этом.
же, там, у костра, лесной ночью; но я не мог. Сознание далеко не всегда
переходит в действие. Может быть, дело было и в том, что я за долгие годы
разучился произносить такие слова - не было повода; а может, имело
значение, что я однажды уже был готов сказать это - той, первой ей, - но
она не позволила, и сейчас я просто-напросто боялся.
потом я где-нибудь приткнусь.
заберусь в большой катер - там просторно.
я, и вот - она. И между нами - несколько слоев ткани и совсем немного
воздуха. И...
были вместе.
мне в конечном итоге придется подыхать от раны в живот или от вспышки
Сверхновой - я все равно буду помнить тихое: "Мне кажется, я счастлива..."
не требовало особого напряжения: противник (если можно было всерьез
называть так людей, вовсе не хотевших тебя убить) ночью не сунется: ночью
можно случайно попасть в человека; хищников здесь, видимо, не было - во
всяком случае, ни их самих, ни следов не заметил даже такой специалист,
как Питек. Надо было чем-нибудь заняться, чтобы скоротать время до того,
как придет пора будить сменщика.
понадобились лопаты. Кроме лопат в ней была еще всякая всячина: два медных
котла, дюжина глиняных кружек и одна алюминиевая (вещь, видимо, великой
ценности, если вспомнить о ее возрасте: вряд ли они тут умели плавить
алюминий. Странная это была цивилизация, где глиняная посуда следовала за
алюминиевой, а не наоборот), стульчик-разножка, кочаны капусты, несколько
круглых буханок хлеба, бочоночек с солониной, несколько грубых одеял,
связанных в пакет. И еще одна странная штука.
наверху и трехногой подставкой, больше всего напоминавшей мне
фотографический штатив. Крышка чемодана была черной, гладкой на ощупь,
похоже, что она была сделана из стекла или чего-то в этом роде - не из
цельного стекла, а из множества круглых стекляшек, вделанных в деревянную
раму. Крышка закрывалась плотно, и я изрядно повозился, пока не открыл
чемодан. Внутри он был устлан по дну тонкой металлической сеткой, и из
каждого перекрестия проволочек торчала тонкая короткая иголочка. В центре
дна было прикреплено металлическое полушарие - оно сидело на сетке, как
паук в паутине. Больше в чемодане ничего не было. Ума не приложить, чему
могла служить такая конструкция. Я пожал плечами, закрыл крышку, и положил
чемодан на телегу, и снова стал напевать.
следующий день мы лишились лучшей части нашего непобедимого войска. Нельзя
было терять времени, и трое - Иеромонах, Георгий и Питек - покинули нас,
чтобы заняться делом.
или сражаясь со стражниками, мы не забывали своей основной задачи:
добраться до здешних правителей и доказать им, по возможности, что
опасность смертельна и эвакуация неизбежна. Но для того, чтобы вести
разговор на равных, и для того, чтобы хотя бы добиться разговора, нам
нужно было знать значительно больше, чем мы знали сейчас. Идя на
переговоры, всегда следует как можно точнее знать слабые места противника
и в случае нужды нажимать на них - порой деликатно, а порой и совсем
грубо. Одна лишь логика никогда еще не решала судьбы каких бы то ни было
мирных конференций, тут играли роль и эмоции, и хитрость, и мало ли еще
что. Редко когда от переговоров зависело столь многое, как на сей раз, и
мы вовсе не хотели идти на переговоры с предчувствием неудачи или,
выражаясь иначе, не хотели начинать игру на поле противника, не понаблюдав
за его командой и не посадив на трибуны некоторого количества наших
собственных и к тому же достаточно горластых болельщиков.
окинуть взглядом хотя бы ближайшие сельские поселения - судя по тому, что
рассказали нам ребята, тут жили в чем-то вроде сельскохозяйственных
поселков, это были не совсем деревни с их приусадебными участками и уж
подавно не хутора (к счастью, потому что это сильно осложнило бы нашу
задачу). Иеромонаху следовало смотреть и слушать, а при случае и вставить
словечко. К крестьянам он пошел с радостью, сказав:
крестьянином же мне способнее. Я сам из мужиков, и мужиком мы во все
времена были живы.
заметно приуныл.
столицу. С собой они взяли одну из девушек - указывать дорогу, и тоже
нарядились по здешней моде. Их было трое, и пришлось дать им большой
катер. В столице им следовало, предварительно замаскировав катер
где-нибудь за городом, пошататься около правительственной резиденции,
поглядеть, легко ли туда попасть или трудно, и выяснить, нет ли там
Шувалова. Если его там не окажется, к вечеру или на другой день они должны
были вернуться, а если он там - попытаться освободить его и выполнять его
указания. Ходить в город рекомендовалось по одному, чтобы не оставлять
катер без присмотра: мы не могли позволить себе лишиться основного
средства транспорта. Сам я решил еще задержаться: зарытый корабль не давал



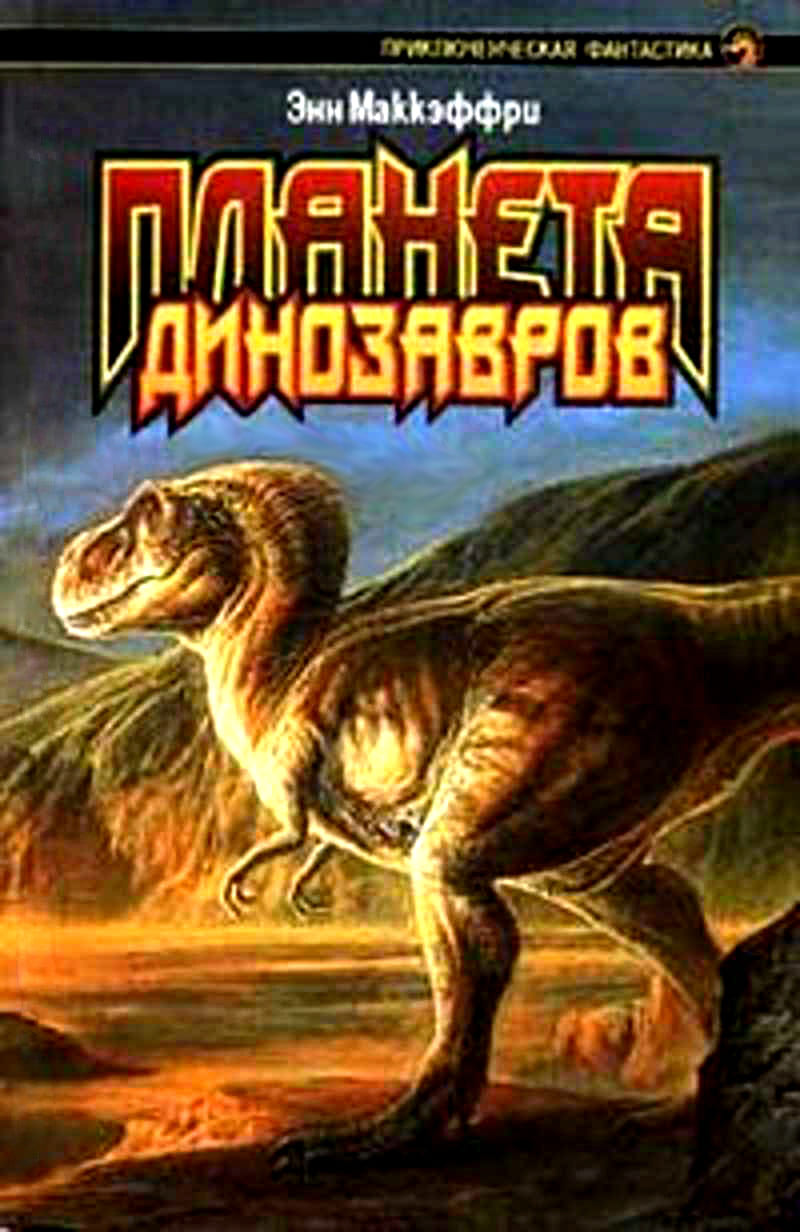


 Флинт Эрик
Флинт Эрик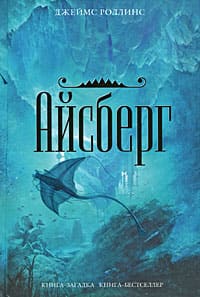 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Маркелов Олег
Маркелов Олег Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия