свои дела и будете считать, что сделали для нас все, что должны были. А
мы...
полгода... Уедем отдыхать, уедем жить.
самом деле, чего мне еще? Ты меня любишь...
истину. Она была уверена - и не зря, потому что так оно и было.
подумай. Я пока не задавал тебе этого вопроса. Так что не надо и отвечать
на него. Вот когда я прямо спрошу: да или нет? - тогда ответишь. А пока не
надо...
корабле и на Земле сами обстоятельства вынудят ее ухватиться за меня.
Сейчас она сомневается, но со временем сомнения эти станут истолковываться
в мою пользу..."
бы тогда, сразу...
больше не буду говорить ничего.
временем...
меня. Не получила бы, как у вас здесь делается, а родила. От меня.
рожали детей, Сосуд рожал их, и это было, конечно, чудовищно. Как бы ни
относился я к детям в разные времена своей жизни, но в одном был уверен
всегда: уж дети-то должны быть счастливы. Остальное может быть потом, но
счастливым надо быть хотя бы в детстве. И я подумал, что стоило бы
пооткручивать головы здешним правителям за то, что они лишили людей такой
радости.
головы, то сообразил, что именно этим мне сейчас и следует заниматься. Я
взглянул на часы. Отдохнули достаточно. Нет у нас ни годичного, ни
трехгодичного отпуска, ни трех дней, ни даже трех часов. Пора лететь.
рисковать Анной - мало ли что могло там случиться - не стал бы и последний
подонок. И когда мы с ней вернулись к катеру, я сказал как можно
легкомысленнее:
основательно. Вот, я тут набросил планчик. - Я отдал ему листок здешней
шершавой бумаги, которой запасся в лесном лагере. - Тут, видимо, была
центральная площадь, поищи что-нибудь на ней. Я понизил голос. - И
смотри... что бы ни было, с Анной ничего не должно случиться.
лягу... вот те крест.
мельницу. - Мне хотелось поцеловать его, поэтому я и ответил ему в манере
мужественных героев. - Как только обстановка выяснится, прилечу за вами.
все, что я хотел, - мысленно, разумеется. - Я ненадолго.
люди, как будут удивляться, и качать головами, и осторожно дотрагиваться
до катера, а потом я заговорю и они, разинув рты, станут слушать меня. Что
я им скажу, было еще неясно; я уповал на вдохновение и на то, что
обстановка покажет.
а ведь сверху я видел людей. Я обошел катер, похлопал ладонью по борту;
однако прошло минут пять, пока наконец не появились первые зрители.
корабля, покрытого тонкой пленочкой заслуженного нагара, дышащего теплом и
непонятными для них запахами, таинственного и неотразимого. Он был, как
питон, а они - словно кролики; сами того не желая и не замечая, они делали
шаг за шагом - уже не шаги, а шажки, чем ближе, тем короче, - и подступали
обреченно, боясь и не противясь. Я видел, как высоко поднималась грудь
каждого, как блестели глаза, как ручонки вздрагивали, потому что им уже
невтерпеж было сохранять неподвижность. Мне стало жаль их неутоленного
любопытства, и я сказал:
взялось? - кто-то уже сидел на моем месте (тот мальчишка, что недавно
подходил ко мне; я узнал его, хотя и сейчас он вовсе не был похож на моего
сына), кто-то - рядом, и один уже гудел под нос (значит, они видели и
слышали, как я садился, прятались в кустах, наверное), и я порадовался
тому, что катер - крепкая и выносливая машина, и порадовался за них, и
почему-то за себя тоже. Наверное, потому, что человек должен почаще видеть
детей, это помогает сохранить чувство реальности, отличать настоящие
ценности от того, что лишь блестит, не более... Я смотрел на них (ребята
уже забыли о моем существовании, катер занимал их, он был не такой, как
все, а я - такой, и, значит, со мной можно было погодить), и в моих
взболтанных мозгах постепенно наступал мир и порядок, возникала структура,
и главное поднималось на свои места, а прочее отступало. Пусть они не
обращали на меня внимания - с этим надо смириться заранее, обязательно
приходит день (и не однажды в жизни), когда ты перестанешь быть для детей
главным, надолго, для тебя - навсегда, ни они вспомнят об этом лишь в
день, когда будут обращаться к тебе, а ты уже не сможешь им ответить и не
услышишь их. Да, пусть так, но все равно, ты смотришь на них, и любишь их,
и вдруг понимаешь, что сделать задуманное тобою ты должен именно для них,
а уж потом - для нее, а еще потом - для всех остальных, и уж под конец,
под самый конец - для самого себя. Я смотрел на них, на десяток или больше
не-моих-сыновей, и понимал, что они все равно - мои сыновья, и пусть то,
что нужно сделать, было невозможно в невозможной степени - все равно, это
нужно сделать. Как? Не знаю, и никто не знает, но сделать. Это было то
самое состояние духа, в котором непосильное становится посильным,
неосуществимое - осуществимым, сказочное - реальным; и, странно, не боязнь
за свое бессилие, и не волнение ощутил я, глядя на них, нестриженных,
чумазых, загорелых, босоногих, ползавших по чуть качавшемуся на упругих
амортизаторах катеру, - не боязнь, а спокойствие и уверенность.
столицы и принесли какие-то странные и даже страшные вести. А поняв, я
быстро защелкнул купол, сказал им: "Играйте тут, только не поломайте", - и
побежал туда, куда они мне показали.
громко и не всегда связно. Их жесты были порывисты. Во всем их поведении
сквозила тревога.
с ужасом.
Шуваловым специально для того, чтобы быстрее получить возможность
выступить в официальной инстанции и, к тому же, в присутствии множества
людей. А когда пришедшие из столицы стали пересказывать угрозы Шувалова, я
понял сущность хода и не удержался от улыбки.
не только улыбнулся, но, представив Шувалова в роли этакого маркиза
Карабаса, даже фыркнул и, когда на меня оглянулись, не сумел сразу согнать
улыбку с лица. И тут же понял, что влип. Потому что стоявший рядом кузнец
Сакс поднял руку.
столицы, - смотрели теперь на меня так, словно я был голым среди одетых.
дороге и как добрался с нами сюда. Ты ведь говорил, что пришел вместе с
другим человеком, правда? Я отлично помню это! Ты слышал, что только что
рассказывали о твоем товарище? Значит, и ты пришел за тем же? Чтобы
погубить жизнь? Убить всех нас?


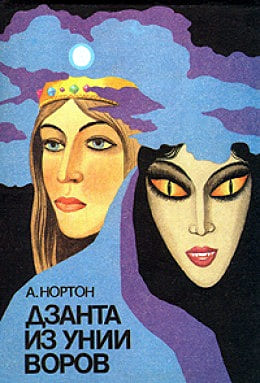
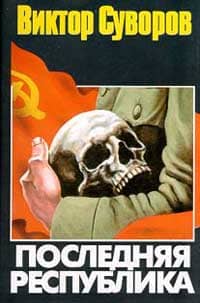
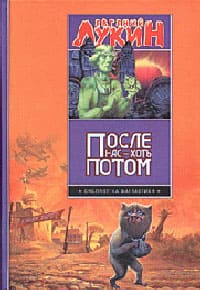

 Браун Дэн
Браун Дэн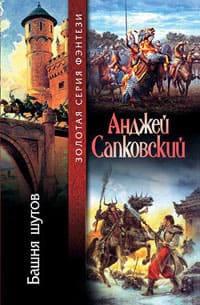 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Березин Федор
Березин Федор Белов Вольф
Белов Вольф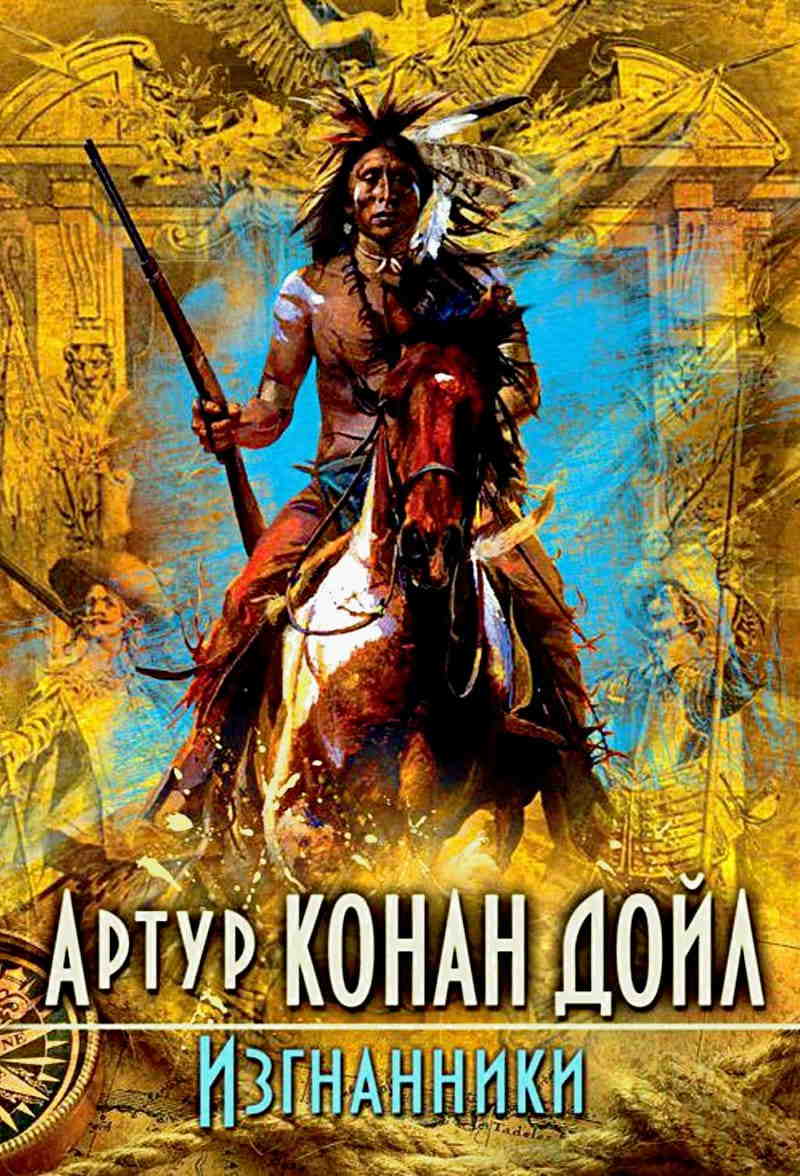 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Шилова Юлия
Шилова Юлия