посыпались из нее, и я полез наверх. Звездолет стоял на старте, но я был
убежден, что рейс сорвется -- мало времени.
нервам, будто действительно взревели стартовые двигатели. Никогда еще не
было такого, но испугаться я не успел -- мы прибыли. Золотой диск затопил
поле зрения. Звездолет повис над поверхностью Новой Хейли, кипящее звездное
вещество Ниагарой стекало из окуляра по глазам, мне казалось, что струйки
капают на подбородок. Никакой сети я не увидел, она растаяла, сгинула, будто
и не было. "Проиграли? -- подумал я. -- Неужели не укротили звезду, и я
увижу сегодня последние часы цивилизации?"
секунд -- я закрыл глаза, отдыхая, а потом чуть в стороне от диска Новой
легко отыскал свою зеленую блестку. Звездолет мой падал на планету, и от
этого неожиданного и жуткого ощущения у меня застучало в висках, подступила
тошнота...
Я заметил на берегу темно-синего океана бурое пятнышко и повернул к нему на
всей скорости, так что затрещали переборки, а невесомость сменилась
тяжестью, рвущей сухожилия. Падение прекратилось. Звездолет висел над
городом. Серебристые облака, растянувшиеся рваными нитями, бросали на дома и
улицы извилистые ломкие тени, и мне казалось, что город -- подводный. Все
расплывалось в глазах, будто рябь воды мешала разглядеть подробности. Но все
же я видел какое-то движение -- словно рыбки мельтешили в подводных гротах.
может, это они? Выстояли перед звездным ураганом, погасили пожары и теперь
оплакивают погибших, приводят в порядок хозяйство, восстанавливают заводы...
А может, не этим они заняты. Чужая жизнь -- я видел лишь мгновение, страшное
для них, но все же мгновение, не больше. И если я всю свою жизнь, ночь за
ночью буду наблюдать за ними, подглядывать через парсеки пустоты, может,
тогда я пойму хотя бы крупицу. Что они знают, что могут, чего хотят?
Справедливы ли? Летают ли к звездам? Любят? Я не уйду из обсерватории, пусть
хоть десять Саморуковых требуют моего изгнания. Мое место здесь. Мое и всех
таких, как я, если они есть на Земле".
видел уже, что дома -- не дома, потому что они меняли форму, вытягивались и
сжимались, и точки на улицах -- вовсе не точки, а диски, очень похожие на
тот, в полматерика, диск-звездолет. "Если это они, -- подумал я,-- то,
наверно, и диск с паутинкой был одним из них, огромным и живым, и, может, он
пожертвовал собой, чтобы могли жить остальные?"
заговорили. Мне послышался голос Ларисы и тоненький Людочкин голосок, как
она утром сказала: "Папка пришел"... Неожиданно все перекрыл взволнованный
баритон Саморукова. Я подумал, что шеф даст команду с пульта, и я поеду
вниз, не увидев, не доглядев, не поняв...
записи...
бродили по кривым окраинным улочкам, все время сворачивали только влево, и
почему-то ни разу не вернулись на прежнее место. Лариса плакала, и мне
ничего не оставалось, как придумывать весомые и утешительные слова, хотя у
самого скребли на душе кошки. Я так старался успокоить Ларису, что и сам
поддался гипнозу слов. Исчезли и злость на Саморукова и тяжелое впечатление
от длинных больничных коридоров. Только лицо Кости -- осунувшееся, бледное
-- стояло перед глазами.
узнал. Может, и не врач это был вовсе, а какой-нибудь санитар, и что он мог
сказать, если третьи сутки Костя не приходит в себя и неизвестно, чем все
кончится, потому что еще не наступил кризис...
Выкурю сигарету и возьмусь опять.
по улице Кирова, Лариса сказала:
Лариса имеет в виду Саморукова.
поругался с этим Михаилом. Давно пора.
Думала она о Косте и рассказывала ему, а не мне:
говорит, что надо срочно подавать в загс заявление: ведь потом воскресенье,
а в понедельник он едет наверх-- наблюдать. Я ему: "Как можно сейчас
говорить об этом? Из-за тебя человек в больнице". А он: "Вовсе нет. История
эта, говорит, лучшее доказательство того, что я бываю прав. Я запретил ему
появляться у телескопа. Если бы он послушался, то спокойно паял бы контакты
на заводе микроэлектроники. На большее его все равно не хватит..." И Михаил
ведь не циник... Наверно, его не била жизнь. Наука, наука, а вокруг себя не
смотрел. Да и Костя хорош. Ну почему, скажи, не жить им спокойно, как всем
людям? Просто жить...
разглядел, что она не Лариса. Не та Лариса, что нужна этому
неуравновешенному молодому лунатику. Или звезднику? Даже и названия нет.
Надо придумать. Придумать название и найти работу в другой лаборатории,
потому что с Саморуковым нам больше не по пути. И надо убедить Костю, чтобы
оставил Ларису в покое. Да разве убедишь... Любовь со школьной скамьи. Вот
уж действительно постоянство -- как у египетских пирамид. Они тоже не
замечают, что время идет и Египет стал иным, а фараоны и вовсе одно
воспоминание. Не стоит она его. Выйдет Костя из больницы, поженятся они,
допустим -- допустим! -- и станет любимая жена пилить его, потому что щадить
себя ради семьи Луговской не будет.
не мог оторваться от своего подслеповатого телескопа и не шел, когда на
звучном итальянском языке его звали спать, и глаза у него болели, а --
глядел. Потому что видел невероятное. Ага, вот и название. Невероятное
зрение. Инкревидение. Великое дело -- название. Сразу легче рассуждать. Если
есть название, значит, вопрос устоялся, пришли к соглашению комиссии и
подкомиссии, и скоро имя автора попадет в учебники. Так будет и с
инкревидением, если... Что если? Все так и будет. Да, но Костя еще без
сознания, третий день, и если...
"если". Дом был большой, старинный, мы стояли у подъезда, и мне на миг
показалось, что там, в темноте, не узкая лестница с выщербленными ступенями,
а провал, пустота, дорога к иным мирам. Иллюзия исчезла -- не нужны Ларисе
звезды и дорога в пустоту, ей нужна земная устойчивость. Работа, дом, семья.
Обеды, штопка, подруги. Книги по вечерам. Кино, театр. Дети. Как у всех.
рассказывать свои истории.
занялся теорией инкревидения. Герой переутомился, а мне придется подводить
под его подвиги научную базу. Так и скажи этому... инкревизору.
подъезда. Конечно, не потому, что смотрит мне вслед, а просто ей сейчас не
хочется в четыре стены, где опять всякие мысли и одиночество. Дочка,
наверное, давно спит...
спросить не у кого, да и не хотелось возвращаться к Валере, в его прекрасные
лепные хоромы, где мама и папа, и брат с сестрой, и бабушка с дедушкой, и
сам Валера со своими вопросами: что, как, почему, и что врачи, и отчего он
так, бедняга... Но больше идти мне в этом городе И было некуда, и я повернул
назад, к больнице, каким-то чутьем узнавая дорогу, сворачивая теперь только
вправо и ни разу не вернувшись к дому Ларисы. Вдали от фонарей
останавливался и смотрел в небо. Звезды для меня оставались такими же, как
всегда, газовыми шарами с заданной центральной плотностью и переменным
индексом политропии. Я завидовал Косте. Завидовал даже не удивительной его
способности, а неистовой увлеченности, с какой он стремился увидеть
невидимое.
в узкую калитку, и, конечно, меня не пустили. Я даже не смог отыскать окон
палаты, где лежал Костя. По внутреннему телефону позвонил дежурному врачу,
услышал прежнее "без перемен, но вот-вот...".
банку сгущенки и потрепанный томик Есенина, разложил Костины тетради ("Ради
бога, Рывчин, берите, мне это не нужно... -- сказал тогда Саморуков. -- Даже
из любопытства не стал бы читать второй раз..."). Нашел пару чистых страниц
и добавил к Костиным каракулям свою бездарную фантазию,
небольшом городке на Урале собрался очередной симпозиум по инкревидению.
Убеленные сединами профессора сидели рядом с зелеными юнцами, потому что
способность эта не знала привилегии и поражала человека неожиданно. Врачи
спорили и исследовали, но то врачи. Физики спорили и не могли поверить, но
то физики. А они, инкревизоры, не спорили. Они открывали людям миры.
вернувшийся из Лунной обсерватории, -- я видел корабли, работавшие на





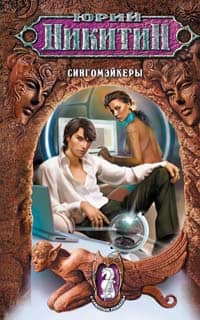
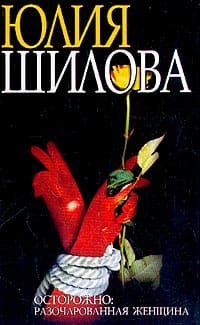 Шилова Юлия
Шилова Юлия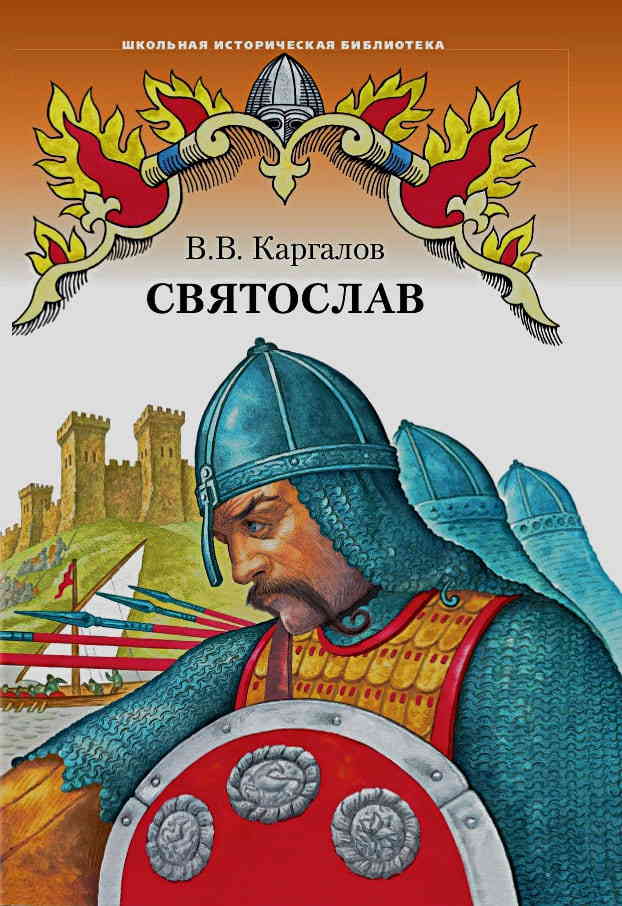 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим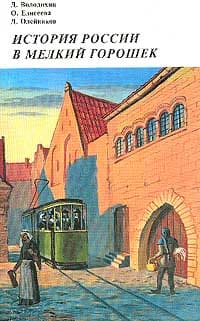 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий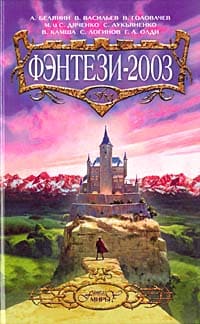 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна