очерчен, было непонятно, однако это уже вопрос другой. Ульдемир стал
оглядываться и общупываться, и чем дальше, тем меньше, казалось ему,
понимал хоть что-то в окружающем.
видеть и ощущать с тех пор, когда, выдернутый из своего времени, как
кустик рассады - с грядки, и пересаженный на другую грядку, в другой
огород, в иное время, оказался на Земле новой эпохи. И ложе, и покрывала,
или для него по старинке простыни, и одеяло, и белье на нем самом - все
было вроде бы таким же, знакомым и даже не вовсе новым, а бывшим уже в
употреблении. Так воспринималось оно взглядом. Но когда Ульдемир стал
всматриваться повнимательнее, пробовать на ощупь, а порой даже и на зуб
кое-что, ощущение повседневной знакомости исчезало, и возникало совсем
другое: впечатление чуждости и даже какой-то враждебности. Простыни были -
не полотно, не лен и не синтетика даже, какая была Ульдемиру знакома, они
лишь казались ткаными, на самом деле то был мелкий рельеф, как у клеенки,
но в то же время были они мягкими, теплыми, хорошо дышали, как и все
прочее белье, но все время казались чуть заряженными, так что порой
возникало чувство, что они живые и тепло их, как тепло другого человека -
это тепло жизни. Но это не радовало, а напротив, немного пугало и было
неприятным, как если бы все время кто-то присутствовал рядом и наблюдал за
ним, а если он ложился и накрывался, то не мог избавиться от чувства, что
доставляет неудобство тем, на кого ложился и кем накрывался. Относилось
это и к ложу, формой точно копировавшему корабельное, что стояло у него в
каюте (и боль на миг схватила сердце, когда он вспомнил о корабле), - но
только формой, а сделано оно было тоже из непонятного материала, теплого и
как бы живого; относилось это и к столику, что оказался вдруг в поле его
зрения, и к стульям вокруг него. Одновременно со столом возникло вдруг и
множество запахов, какие доносятся порой из хорошо налаженной кухни, и
Ульдемир внезапно понял, что страшно голоден и, махнув рукой на все
остальное, уселся за стол, даже не подумав, что следовало бы, пожалуй,
умыться. Впрочем, ощущение у него было такое, словно он только что из
ванны, и потри кожу ладонью - она заскрипит.
что, если и сам он - лишь видимость человека теперь, а на самом деле тоже
какой-нибудь полимер или что там еще? Однако тут же от сердца отлегло:
нет, человеком он был, человеком до кончиков ногтей, до последнего волоска
на коже. И именно самим собой: маленький шрам на указательном пальце левой
руки, след нарыва, оставшийся что-то, помнится, с шестилетнего возраста,
был тут как тут; не обнаружив поблизости зеркала, Ульдемир слегка
прикоснулся пальцами к носу и нащупал знакомое искривление, память о
юношеском увлечении боксом, и даже обиделся: те, кто латал его, могли бы
заодно и это поправить, облагородить облик, он не стал бы предъявлять
претензий. Латать - именно так он и подумал, это легко укладывалось в
сознание, хотя если бы он всерьез задумался, то понял бы, что после
атомного взрыва латать бывает нечего; впрочем, о характере взрыва он знал
сейчас не больше, чем о его причинах.
более сильный и нужный аромат источала большая (как он привык) чашка
черного кофе с лимоном. Лимон почему-то рассмешил и умилил его. Не просто
кофе, а с лимоном, вот тебе! Что называется знай наших, или - фирма не
жалеет затрат!
в крайнем случае, двоюродным (кофе с лимоном, ты смотри, а?), Ульдемир все
же не сразу решился воткнуть в мясо вилку и прикоснуться ножом. Нелепая
мысль, что оно тоже, как и простыни, живое, неожиданно смутила его, и если
бы жаркое вдруг взвизгнуло от боли и соскочило с тарелки, это, пожалуй,
испугало бы капитана, но не удивило. Однако никто не визжал и не прыгал, и
ощущение подлинности возникло и уже не оставляло его до последнего глотка
кофе.
ложиться больше не будет, а просто отдохнет так, а потом сразу попытается
найти выход из этой - из этого - из того, где он находился сейчас,
безразлично, дом это, корабельная каюта или еще что-то другое. И лишь
постаравшись самостоятельно понять максимум возможного, потребовать приема
у тех, кто командовал этим "чем-то", и всерьез договориться о быстрейшем,
по возможности, возвращении на Землю и об установлении взаимовыгодных
контактов между цивилизациями, находящимися, как ему казалось, примерно на
одной и той же стадии развития (пусть эти и были, видимо, чуть впереди) и
способными, следовательно, чем-то обогатить друг друга. Это была большая
удача - встретиться с такой цивилизацией, и Ульдемир полагал, что она в
значительной мере облегчит досаду Земли из-за неуспеха экспедиции и потери
корабля и уменьшит его вину, которой он не мог не ощущать, хотя и не знал,
в чем она заключается или могла заключаться; а может быть, и
посодействует, в частности, решению тех энергетических проблем, ради
которых корабль и вышел в пространство. Но прежде всего радовало его то,
что спасены были все люди и, следовательно, самой большой и острой боли
Земля не ощутит.
стало вроде бы больше. Тогда он встал, огляделся в своем тесном круге, за
пределами которого по-прежнему не различал ничего, и, не обнаружив нового,
решил, что пойдет - ну хотя бы в направлении от ложа мимо стола - по
прямой, пока не наткнется на какую-то преграду, переборку, а тогда
двинется вдоль нее и рано или поздно обнаружит выход. Выхода не могло не
быть: Мастер не говорил, что Ульдемир должен оставаться на месте,
напротив, советовал прогуляться и оглядеться.
вешал ее обычно - его повседневная корабельная одежда. Она тоже была
чужой, но к этому он уже начал привыкать. Ульдемир оделся, обулся, пошарил
по карманам, - там нашлось все, чему полагалось находиться, - и решительно
двинулся вперед, собираясь ничем больше не отвлекаться и не строить
гипотез, пока не увидит чего-то нового, что дает материал для размышлений.
Он сделал несколько шагов.
как если бы что-то рухнуло, развеялось, растаяло; исчезла дымка,
многоцветный туман, и стало видно далеко-далеко. И эта внезапная ясность
оказалась столь неожиданной, что Ульдемир остановился, как если бы перед
ним раскрылась бездна; остановился и стал смотреть, пытаясь понять, что же
это было и как это следовало оценивать.
замкнутости пространства, какое не покидало его на своем корабле, хотя
капитан и привык к этому ощущению, как к необходимой части жизни. Конечно,
и на корабле были "сады памяти", были и просто обширные помещения с
имитацией бескрайнего земного простора, где живые деревья незаметно
переходили в изображенную и подсвеченную перспективу; но там всегда
оставалось хотя бы чисто подсознательное ощущение ненастоящести и
ограниченности этого видимого якобы простора.
золотистым светом, исходившим отовсюду и не дававшим теней. Дом -
двухэтажный коттедж, вполне земной и даже не современной, а давней
архитектуры, с крутой высокой (капитан запрокинул голову, чтобы увидеть
это) крышей, с балкончиками; яркой муравой луг убегал от него,
пересеченный неширокой, прозрачной, медленно струящейся речкой,
окаймленной невысокими кустами, - убегал к кромке леса, видневшегося вдали
и как бы заключавшего луг с речкой и домом в раму. Хотя дом, как было
сказано, и возвышался над лугом, но лес у горизонта был, казалось, выше,
как если бы луг был дном то ли чаши, то ли блюда - и непонятно было, как
речка в дальнейшем течении могла взбираться вверх. Впрочем, может быть,
она и не взбиралась, а впадала в какое-то маленькое и невидимое отсюда
озерцо. Выше было небо, густое, южное, цвета индиго, в котором привычный
глаз искал необходимое для завершения и полной убедительности картины
солнце - и не находил его, хотя свет был июньский, утренний, животворный.
Был свет, и был запах, хмельной запах летнего утра, солнца, и меда, и
цветущей травы, и теплого тела. Ульдемир постоял, не моргая, боясь, что от
малейшего движения век все это исчезнет и останется лишь непрозрачная
дымка и двухметровый круг; наконец глаза, не вытерпев яркости, моргнули -
все же осталось, ничто не обмануло, не подвело. Прожужжала пчела,
прошелестел ветерок, где-то перекликнулись птицы - жизнь журчала вокруг,
ненавязчивая, себя не рекламирующая, занятая сама собой - жизнью, когда
все происходит там, тогда и так, когда и где нужно, и никто не
препятствует происходящему. Ульдемир стоял бездумно, беспроблемно,
бестревожно, забыв дышать, пока легкие сами собой не заполнились до отказа
воздухом и не выдохнули его чуть погодя. То был вздох не печали, но
полноты чувств. Еще мгновение - и невозможно стало переносить эти чувства
одному; другой человек понадобился, женщина, о которой говорило, пело,
шелестело все вокруг. И - как будто дано было сегодня незамедлительно
сбываться желаниям - послышались шаги на веранде, там, где она,
изогнувшись, скрывалась за углом дома. Ульдемир повернулся, шагнул
навстречу, заранее приподнимая руки; но то был Мастер, и руки опали.
как бы обнимая, - с высоты его роста это было легко. Странное,
покалывающее тепло от ладони пришедшего проникло в тело и растеклось по
нему, уничтожая последние остатки слабости, неуверенности, боязни.
Дружелюбием веяло от Мастера, и стало можно спросить его, словно старого
знакомца:
конечно - она обширна, ее не охватишь взглядом.




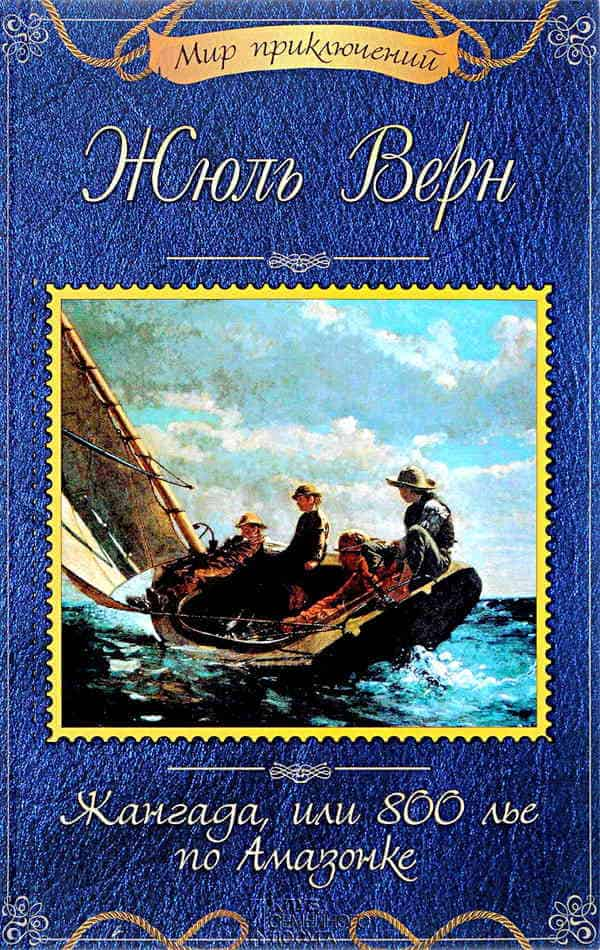

 Пехов Алексей
Пехов Алексей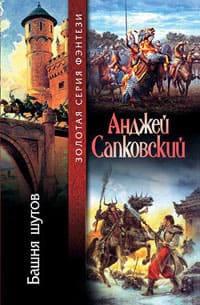 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей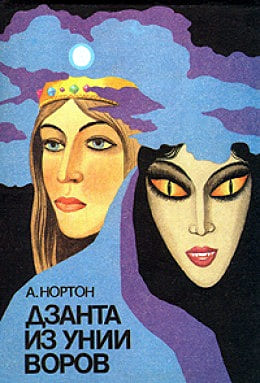 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ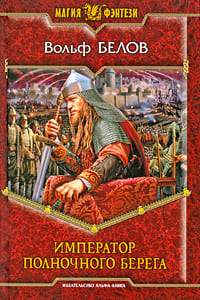 Белов Вольф
Белов Вольф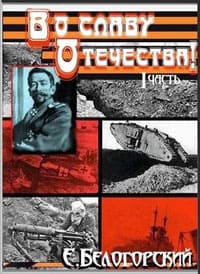 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений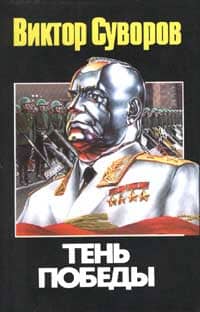 Суворов Виктор
Суворов Виктор