оказалось достаточно, чтобы Рад осознал свое бессилие. Инка неотвратимо
уходила из его жизни. И с этим ничего не поделать. Как ни стискивай пальцы,
не удержишь воду в ладони. Инку тоже не удержать. Она истекала из него, как
вода сквозь пальцы, как песок в колбочке песочных часов. Рад старался
закрыть собой все щели мира, но она уходила...
взорвалась. В прежние времена никакие "вдруг" в ней его бы не удивили. Но
сейчас даже переходы настроения были редки. Инка покраснела и выбрасывала
слова слепо и посторонне:
и смеяться можешь? Да, помню! Отлично все помню! Каждую твою ласку, каждое
прикосновение. Губы твои помню, дыхание. За руками б твоими на край света
побежала, только помани. Да ведь ты же не меня во мне любишь. Я к своему
телу прислушиваюсь -- и не верю ему: как оно тебя знает и зовет! А я-то где
все это время была? Кого ты по ошибке во мне высмотрел? Отчего я все помню,
а как будто заново к себе примеряю?
другую во мне потерял. Разглядываешь меня, а ее не находишь. Я тут
прочитала, иногда у человека раздваивается сознание. Будто в нем двое живут,
не догадываясь один про другого. Может, и у меня так?
думал о другой. Я ведь люблю тебя. Потому и не могу.
последнее, что я еще могу. Хочу с тобой быть. Очень хочу. Но не выходит.
кроткие слезы. А Рад вспоминал слезы той, прежней Инки. В Концертном зале
они слушали "Рябинку" в исполнении "Поющих гитар". По неожиданной
напряженности позы, по неподвижности ее ладони он почувствовал, что Инка
плачет.
попробовал губами осушить ее глаза. Инка вырвалась:
слов. Не по выражению лица. Даже не по тому, что Шамарин до их знакомства
ходил в Инкиных женихах. Рад ощутил Инкин уход по тому, как замолчали вокруг
вещи.
выпячивал полки, блестел стеклами, напрягал потайную дверцу, где за
наклеенными корешками энциклопедий скрывался крошечный бар. Под ее руками
распахивались на нужных страницах книги. Завидев ее, обеденный стол делал
навстречу галантный мужской шажок, старенький диван изгибался и вытягивался
у ее ног, как привычный к седлу семейный сивка-бурка, а когда Инка садилась,
приникал к ней и что-то мурлыкал ослабевшими пружинами, улыбался во всю
ширину раздавшейся по шву обивки.
женщины в своей Инке. Диван стал как диван, с выцветшей спинкой, с торчащими
из лопнувшего шва нитками и скрипучими пружинами, которые Рад давно уже
собирался перетянуть. Понурились книги. Незряче глядели стекла стеллажа.
не ожидая оклика. Он знал, что оклика не будет, потому не спешил. Тополя
развесили прозрачную, едва проклюнувшуюся листву, про которую всегда
хотелось сказать "стеклянный дым". Правда, Есенин задолго до него уже назвал
так женские волосы... Каждую весну Рад пытается уловить момент, когда
прорезавшаяся почка превращается в лист, и каждый раз запаздывает. За
день-другой теплого мая зеленый дым внезапно становится взрослой листвой.
Тайна такая же непостижимая, как пути, по которым люди встречаются и
расходятся.
говорила: "Послушай, море шумит". И Рад слышал море. Инка говорила:
"Послушай, о скалы песок ударяется". И Рад слышал беззвучные посвисты ветра
и шорох просыпанной на скалы горсти песку. Инка говорила: "Послушай, через
два дома от нас Равеля играют". И Рад слышал повторяющиеся и беспрерывно
новые завитки равелевского "Болеро".
костюме отшатнулась, перешла на другую сторону улицы. Рад сунул ракушку за
ухо -- она с тихим чмоком присосалась к виску. Из легкого прибойного гула
выделился смущенный Инкин голосок:
это несправедливо. Но я рада...
сторону деревья показались странно неподвижными. Как при вспышке молнии.
имеет любой из жителей, мы называем их "шептунами". Ты слышишь меня потому,
что хочешь услышать, что сейчас я нужна тебе. Я думаю, что нужна... Извини,
это все, что я смогла оставить тебе на память.
и растерянную. Я бы очень хотела вернуться, Рад. Хотя бы для того, чтоб еще
раз тебя поцеловать. Но это невозможно. Слушай.
открыла обход Ограничения Лазарева и могу путешествовать в прошлое без
опасности на него воздействовать. Ведь если я поселюсь в теле человека,
живущего в вашем столетии, я не смогу натворить ничего такого, до чего не
дошел бы он сам, собственными мыслями. Даже если я что-нибудь ему внушу, он
сделает это своими руками, и будущее останется в стороне.
притихла лишь после того, как мы встретили тебя. В языке нет таких терминов,
придется говорить о женщине с одним телом и двумя душами во множественном
числе, ты уж привыкни, родной, ладно?
закрутились распри. Ты, конечно, ничего не замечал. Наверно и не стоило тебе
говорить, ты неустойчивый, ранимый. Та Инка ничего бы тебе и не сказала,
потому говорю я. Мы ревновали друг к дружке -- обыкновенно, мелко, по-бабьи.
Не зная еще, кто у кого тебя крадет, мы пихались локтями внутри одной
оболочки, вели себя как в коммунальной квартире. И если б сумели -- прости
меня! -- повернулись бы тылом и показали одна другой задранный подол -- это
из детства той Инки, твоей современницы, так тогда ругались или бранились, я
не поняла, в чем разница. Но не думай, я тоже хороша! Ты сейчас морщишься от
презрения, но я не хочу ничего скрывать. Не привыкла...
ругаются (или бранятся?) домохозяйки на общей кухне. Наше тело -- одно на
двоих! -- и было этой самой коммуналкой. Конечно, я не только это унесла из
вашего времени. Да и та Инка, поверь, не осталась с чем была. Каждая из нас
немножко пожила за двоих. Но сейчас речь о другом. Инка вашего времени
изощреннее, сильнее меня. Она умеет бороться за земное счастье, а мы к этому
не приучены: нам счастье дается слишком легко. Разумеется, я смогла бы
притушить Инкино сознание. Временно или навсегда. Но это означало бы
убийство. Даже хуже убийства...
подумал, что все ему снится. Он вынул ракушку из-за уха -- тоненький голосок
немедленно умер. Снова присосал к виску, уловил едва ощутимую равелевскую
мелодию.
высунулся бородатый гражданин в подтяжках поверх нижней рубахи. Едкая
бороденка оказалась единственным украшением его безоблачно обритой головы.
разу еще не появлялся...
Волной плеснули последние звуки "Болеро", оставили Инкин голосок:
никуда не выпустят из нашего времени. Я посягнула на свободу человека, на
Инкину личность, допустила утечку вещей из нашего века, я имею в виду
"шептун". В общем, я преступница, Рад. Может быть, люди моего времени от
меня отвернутся. Но жалею я лишь об одном: что никогда тебя не увижу. Это
слово "никогда" для меня еще страшнее, чем для вас: ведь я буду жить на
свете тогда, когда никого из вашего столетия уже не будет. Никого. Даже тебя
и той Инки. Даже тех, кого мы приветствовали на демонстрации...
прошлого простая, не очень далекая девчонка. Но ты думаешь, потому я ушла? О


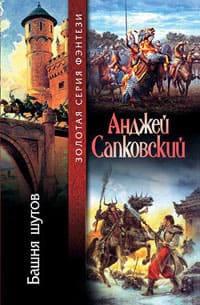



 Беляев Александр
Беляев Александр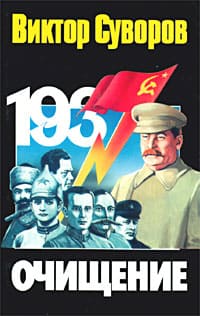 Суворов Виктор
Суворов Виктор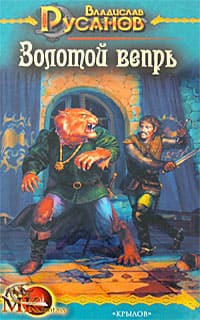 Русанов Владислав
Русанов Владислав Березин Федор
Березин Федор Самойлова Елена
Самойлова Елена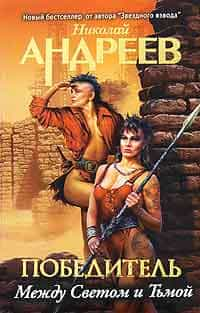 Андреев Николай
Андреев Николай