мы единственный раз в жизни поссорились.
и один изображает ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Мы
аплодируем: настоящий волшебник перевоплощения. Жаль, формулы ему так
зрелищно не удаются, верх достижений -- молекула метана...
не в силах вынести Толлерова взгляда.
Радужка, несерьезно. У тебя же талант помогать людям, честное слово!
Тольда в упор, как на экран. -- Пусть идет. Профессия актера -- самая
безопасная на Земле!
кумир Семихаток, как раз и есть мой одноклассник, отчего-то немыслимо
постаревший. Я порадовался за себя. И пожалел того, кого доконала неточность
выбора. Ведь ему сейчас... Ну да, тридцать один, как и мне. Только он не
февральский, а августовский. Мы ни разу не праздновали его дня рождения --
летом ведь так трудно собрать гостей!
кресле. И еще раз пожалел человечка на сцене. Уже без зависти, которую,
похоже, скрывал от себя всю жизнь.
во мне. Ермилов заиграл широко, раскованно, заиграл для одного меня и про
одного меня, бесстыдно раскрывая притихшему залу мою биографию. Отелло,
оказывается, тоже дико, безнадежно, бессмысленно одинок. Как ледовик в
каверне: едет, куда везут, посылает миру отчаянные отчеты в капсулах без
надежды на то, что их примут. И действует так, будто по-прежнему живет на
виду у всех, будто люди способны видеть на четыре километра в глубь льда.
Нет отклика ниоткуда, нет весточки от своих. И об ответе не мечтай, никакие
сигналы не пробиваются в закупленный, оторванный от человечества мирок. Ведь
зрители, сопереживая, тоже отделены от него невозможностью вмешаться в
действие. Даже если ложь сокрушает у них на глазах человека. Крохотная
ледяная каверна в сердце -- и вот она разрастается, пухнет, вот уже
поглотила целиком, и ты внутри нее, спеленатый по рукам и ногам ревностью,
ненавистью или завистью -- все они ранят необратимо.
поется в песне ледовиков. Победить каверну можно только один на один. Никто
не придет на помощь. Надо жить воспоминаниями. Держать в себе человечество.
Беспрерывно думать о нем. Сосредоточить его в себе. Не дать расплыться,
потерять конкретность, вытечь из сознания. И держать, держать, держать --
постоянно чувствовать и держать в памяти всех-всех-всех. Даже тех, кто
рождается и умирает на Большой Земле без тебя, за период дрейфа.
ногой, не мог повернуть головы к светящемуся циферблату, не мог вытолкнуть
из груди ком хрипа и ужаса. Вокруг витал Голос -- голос отца. "Нельзя,
нельзя прививать себе вакуумный паралич... -- взывал он. -- Не записать
ощущений, сердце останавливается, никто никогда не узнает, что мозг
перерождается... Потеряв связь с себе подобными, мозг обретает взамен
вечность. Но вечность созерцания. Вечность безделья. Человек не имеет права
платить такую непомерную цену, вакуумный паралич не болезнь, не смерть, это
параллельная, чужеродная людям жизнь. Не сметь заражать себя, противоядия не
существует! Умоляю, догадайтесь сделать нейтринный срез моего мозга.
Обращаюсь к тем, кто меня обнаружит, обращаюсь к своему сыну. , . Вадим,
сын! Ты обязан услышать..." Темнота в танке душила меня, и Голос гас. А я
по-прежнему не мог пошевелить пальцем, включить свет, ответить на безмолвный
крик с Брэдбери-II. До сих пор не решаюсь спросить -- выловили, не утеряли
ту капсулу с моим донесением о Голосе отца? Хорошо, дочка меня отвлекла,
Юлька. Я произвел ее на свет на полтора месяца раньше срока. Вычислил ей
ямочку на подбородке, постоянно сжатые кулачки, синие, вечно озябшие ножки в
перевязочках, все ж таки недоношенка... Я по минутам расписал Юлькин режим.
Попереживал, что у Жанны пропало молоко, выучился варить кашку. В изобилии
усыпал колыбель шарами и погремушками, на первый дочкин зуб подарил
серебряную ложечку и Серебряного пингвина... Юлька бы уже топала и плавала
не хуже ровесников, не хуже своевольной беглянки Оли. И так же теребила бы
родителей, просила почитать на ночь нестрашное...
ни боже мой, мне ни на секунду нельзя было усомниться в том, что погибни я
-- весь мир погибнет вместе со мной. Иначе не выживешь, иначе умеющие
приспосабливаться льды скуют тебя равнодушием, и ты сам станешь их
частичкой.
Заговаривает с дожем. С Дездемоной. С Яго. И не слышит их. Не может
услышать.
Зато Юльки нет ни у него, ни у меня...
неестественно, неэтично, скучно наконец! Я поерзал в кресле, обеспокоенно
огляделся. Ни один зритель на меня не пялился. Зал молчал, зал вымер. В
паузах между репликами слышался разрядный шелест светодекораций.
меня, он играет одновременно сто десять разных мавров.
без труда улавливаю это -- в чем, в чем, а в скрытых мировых связях ледовики
разбираются получше прочих, даром, что ли, вынашивают в себе целую
Вселенную! Разумеется, когда очень нужно. Когда они в дрейфе.
разомкнутую Вселенную чужой души. И начинаю, по-моему, постигать 'моего
несостоявшегося друга...
Дездемоне, в незамеченном или непринятом ею одиночестве. Изредка Жаннин
Отелло загорается грешной надеждой. Но удачливый соперник снова и снова
возвращается из ледового плена. Убить надежду и тем самым спасти Отелло
может только ребенок, так и не родившаяся Юлька. Но Юльки нет. Отелло
разгромлен, побежден, настала пора проститься. И ничего иного не остается,
как задушить Дездемону, задушить в себе самом своими собственными руками --
нелепо растопыренными, угловатыми, непропорционально короткими и хилыми у
плеч, будто руки целиком ушли в нетерпеливые толстопалые кисти...
язвительный интриган-толстячок, во всем под стать хитроумному Яго. Проиграв
сопернику по очкам, он из мести -- пусть никому не достанется! -- без лишних
слов ликвидирует подружку.
испытав любви, уже знает разочарование.
сцене, всякий раз ожидающих премьеры. И самого Ермилова, разъятого на сто
десять неравных частей.
перевоплощения, отдавал себя так, будто сцена не сцена и игра не игра, а
самая натуральная реальность, будто этот вечер -- наипоследнейший в его
жизни. Отдавал безвозвратно и щедро. Потому, видимо, что его девизом, в
отличие от нашего, было: СЕБЯ -- МИРУ! Как же надо любить людей, чтобы вот
так вот тратить себя в этой самой мирной и самой безопасной профессии на
Земле!
стук из-за двери уборной никто не ответил. Мы вошли.
глаза. Весь аморфный. Растекшийся в кресле. Расслабленный и непроизвольно
нацеленный в белый свет. Может, прошлый. Может, будущий -- трудно сказать.
Во всяком случае, не имеющий настоящего времени. Старушка-массажистка
стирала с его физиономии грим. И еще больше оголяла безликое лицо, которое
нуждалось хоть в каком-нибудь макете для подражания -- как жидкий лед для
кристаллизации нуждается в постороннем предмете. По чужому для нас
ермиловскому лику бродили, не закрепляясь, черточки старушечьей маски;
выцветшие глаза, заостренный носик, куриные лапки морщин, желтый, как
ананасная слива, подбородок. Войдя, мы с Жанной тоже отразились в этом лике.
Отразились -- и некоторым образом усреднились, просуммировались -- как много
лет живущие вместе супруги, отброшенные зависимой Толлеровой памятью к
неизбежной и, слава судьбе, далекой пока от нас старости. Но появилось в
Ермилове что-то и от Обезьяныша, от юного Тольда-Радужки.
Снежана.
девчонки с морозным именем из детства. Для Ермилова, выходит, наоборот. Он
трудно поднял голову. Собственная мимика еще к нему не вернулась, движения
глаз не поспевали за движениями бровей, губы и морщины вокруг рта жили не в
такт, удивленно вздернутая кожа на лбу вообще пока не обрела подвижности. От
того Ермилова, с которым мы несколько раз столкнулись перед спектаклем, он
уже отличался возрастом: сегодняшний вечер состарил его года на два. Не
понимаю, куда у них в театре смотрит техника безопасности? Человек чуть не
каждый вечер гробит себя у всех на виду, рискует жизнью, а им и дела нет.
Или никто не замечает?!






 Акунин Борис
Акунин Борис Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия Земляной Андрей
Земляной Андрей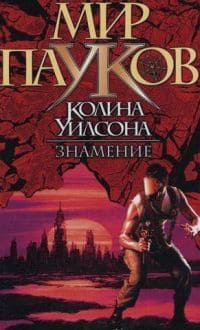 Прозоров Александр
Прозоров Александр Николаев Андрей
Николаев Андрей