Смерть в Риме
1
полубог, любимец Аполлона, покоится в Пантеоне; но как ничтожны те, чьи
останки позднее погребены рядом с ним: кардинал, заслуги которого забыты,
несколько королей и их пораженных слепотой генералов, преуспевшие чинуши,
ученые, добившиеся упоминания в энциклопедиях, художники, удостоенные
звания академиков. А кому дело до них? Дивясь, стоят туристы под древними
сводами и смущенно смотрят вверх на единственное окно, на круглое
отверстие в когда-то выложенном бронзовыми плитками куполе, откуда свет
льется, словно дождь. Не золотой ли это дождь? Даная разрешает агентству
"Кука" и итальянскому туристскому бюро распоряжаться ею, но радости это ей
не дает. Поэтому она и не поднимает платья, чтобы принять бога. Персей не
рождается. Медуза устраивается по-мещански, голова у нее цела. А Юпитер?
Прозябает ли он на маленькую пенсию среди нас, смертных, или, быть может,
это вон тот старичок из компании "Америкен экспресс", управляющий немецким
отделением бюро путешествий? Или он сидит за толстыми стенами сумасшедшего
дома на городской окраине и любопытствующие психиатры робко обследуют его?
Или заточен в государственную тюрьму? На Капитолийском холме посадили за
решетку волчицу, она больна, она в унынии, тут уж не до кормления Ромула и
Рема. В свете, льющемся сверху, лица туристов похожи на тесто. Какой
пекарь будет месить его, какая печь - подрумянивать?
почти неприятна, как неприятен собственный голос, когда он записан на
пленку и ты впервые слышишь его в громкоговорителе и думаешь: значит, вот
я каков? Самоуверенный хлыщ, лгун, ханжа, тщеславный фат? Прежде всего
скрипки звучали чуждо, слишком красиво - не таким бывает тревожный шум
ветра в деревьях, и разговор детей вечером с демоном, и страх перед земным
бытием, он не такой умеренный, он не так хорошо дозирован, он терзает
глубже, этот древний страх, когда в тебе вызывают дрожь шорохи леса,
небесные просторы, облака-странники, - вот что хотел воспеть Зигфрид, но
это ему совсем не удалось, и потому, что не хватило сил, он чувствовал
себя теперь слабым и малодушным, он чуть не плакал, а Кюренберг был в
хорошем настроении и хвалил симфонию. Зигфрид восхищался Кюренбергом: тот
подчиняется нотам и вместе с тем управляет ими своей дирижерской палочкой,
однако бывали мгновения, когда Зигфриду казалось, будто Кюренберг
совершает над ним насилие. И тогда Зигфрид сердился, оттого что не
защищается. Но он не мог: Кюренберг умел и знал столь многое, а Зигфрид
учился мало и в теории сильно отстал. Кюренберг разглаживал, расчленял,
акцентировал партитуру Зигфрида: то, что было для Зигфрида смутным
чувством, поисками какого-то звучания, памятью о каком-то саде еще до
всякого рождения, близостью к правде вещей, которая могла быть только
нечеловеческой, - все это под дирижирующей рукой Кюренберга становилось
человечным и прозрачным, музыкой для высокообразованных слушателей, однако
Зигфриду она казалась чуждой, он был разочарован, ведь укрощенные
дирижером чувства стремились к гармонии, а его именно это и беспокоило, но
в конце концов артист в нем победил, и его стало радовать точное и чистое
звучание инструментов и та тщательность, с какой сто мастеров знаменитого
оркестра исполняют его сочинение.
крематории стоят такие же растения, и при взгляде на них даже в летнюю
жару невольно вспоминались холодные зимние дни. "Вариации на тему смерти и
цвета олеандров" назвал Зигфрид свое первое крупное произведение - септет,
который так и не был исполнен. Сочиняя септет в первой редакции, он
вспоминал смерть своей бабушки, единственного человека в семье, которого
любил, - быть может, оттого, что она прошла такой чуждой и тихой через
шумный дом его родителей, где постоянно толпились люди и громыхали
походные сапоги. А какой торжественной и скорбной сделали ее кремацию!
Бабушка была вдовой скромного пастора, и, если бы она могла видеть, ей
вовсе не понравились бы та высокая техника и комфорт, та напыщенная и
бесчувственная проповедь, с коими ее гигиенично и удобно выпроводили на
тот свет; и венок и крикливый бант со свастикой, присланный каким-то
женским союзом, были бы ей, безусловно, неприятны, хотя при жизни она
никогда не высказывалась против.
более общее, сумеречное, тайный бунт, мерцающие, глухие и смутные
романтические ощущения, а из музыкальных фраз, насыщенных мятежным
упорством, словно возникал обвитый розами мраморный торс юного воина или
гермафродита среди развалин горящего оружейного склада; этот образ выражал
мятеж Зигфрида против окружавшей его действительности: лагерей для
военнопленных, оград из колючей проволоки, против пресловутых
соплеменников с их нудными речами, мятеж против войны, виновниками которой
он считал таких людей, как его родители, против всего своего отечества -
оно было одержимо чертом, и черт его уже побрал. Всех их Зигфрид хотел
разозлить и попросил Кюренберга, дирижера, известного раньше в Германии, а
теперь - об этом Зигфрид прочитал в английской газете - жившего в
Эдинбурге, прислать ему образцы двенадцатитонной музыки; эта манера
композиции считалась нежелательной на родине Зигфрида в дни его ранней
юности, но она привлекала его уже по одному тому, что ее предали анафеме
ненавистные властители, военные муштровщики и его грозный, могущественный
дядя Юдеян, чье мрачное изображение в ненавистном мундире некогда висело
над осточертевшим письменным столом отца; и Кюренберг прислал Зигфриду в
лагерь произведения Шенберга и Веберна, приложив любезное письмо. Так
дошли до Зигфрида ранние нотные тетради "Универсаль эдисьон", они
появились в Вене, когда Зигфрид еще не мог с ними ознакомиться, а после
присоединения Австрии к Германии они были уже запрещены. Музыка эта
открыла Зигфриду новый мир, врата, через которые он мог вырваться из
клетки, не только из обнесенного колючей проволокой загона для
военнопленных, но и из этих давящих тисков; и он сбросил семейное ярмо,
как он имел обыкновение говорить, война ведь была проиграна, его
освободили, и он мог уже не склонять головы перед воззрениями своей
семейки, ибо всегда считал свое рождение в этой семье величайшим
несчастьем.
зелень их напоминала высохшие листья, которые, намокнув в супе, так и
плавают в нем, неразваренные и колючие. Эти веники угнетали Зигфрида, а в
Риме он не хотел грустить. Но их зелень слишком живо напоминала о
невкусном супе, об обедах из одного блюда в нацистской школе, куда отец
отдал его по настоянию Юдеяна, о скудном армейском рационе в вермахте,
куда Зигфрид удрал из школы, - однако и в нацистском военном училище
зеленел лавр, а в казарме всегда имелись про запас дубовые листья и плющ
для орденов и для могил. И повсюду портрет фанатичного молодчика с
чаплиновскими усиками - теперь этот субъект смылся и вышел из игры, тогда
же портрет фюрера благожелательно взирал на стада жертвенных баранов, на
только что созревших для убоя мальчиков, которых втиснули в военный
мундир. Здесь, среди лавров и олеандров концертного зала, от которых веяло
искусственным холодом, висел старинный портрет композитора Палестрины, он
не благожелательно, а, скорее, строго и укоризненно внимал оркестру.
Тридентский собор одобрил музыку Палестрины. На музыкальном конкурсе в
Риме, вероятно, отклонят симфонию Зигфрида, и это тревожило и удручало его
уже на репетициях, он еще по пути в Рим предчувствовал, что его отклонят,
хотя теперь и уверял себя, будто ему все равно.
церкви всех святых к термам Агриппы, но Римская империя рухнула, обломки
засыпали ров, потом археологи раскопали его, и теперь оттуда торчат остовы
стен, обветшалых, поросших мхом, и на развалинах восседают кошки. Кошек в
Риме видимо-невидимо, они - древнейший род этого города и высокомерны не
меньше, чем Орсини и Колонна, они воистину последние настоящие римляне,
правда уже времен упадка. У них имена, достойные цезарей: Отелло,
Калигула, Нерон, Тиберий... Вокруг кошек собираются дети, подзывают их и
дразнят, тараторят и захлебываются, как стремительно бьющий ключ, и голоса
их кажутся иностранцам прелестными.
мордочки, но школьные банты придают им сходство с детьми на картинах
Ренуара. Школьные фартуки задрались, короткие трусы открывают ноги, от
света солнца и слоя пыли кажется, что это бронзовые ноги статуй. Вот она,
итальянская красота! Вдруг поднимается хохот. Они высмеивают старуху.
Сострадание всегда предстает в образе беспомощности. Старуха бредет с
трудом, опираясь на палку, она принесла кошкам поесть. Жратва завернута в





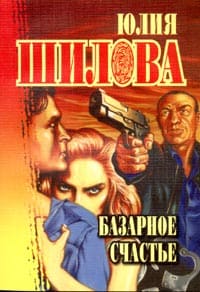
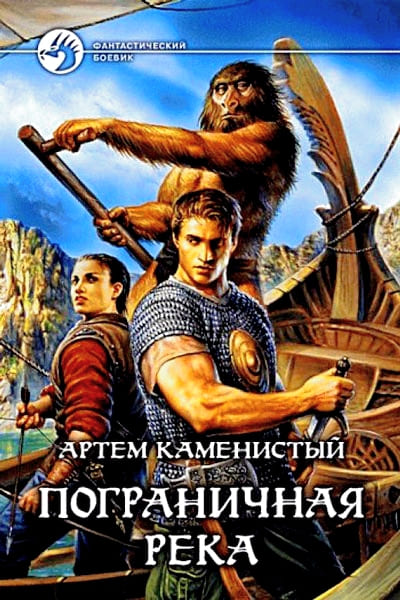 Каменистый Артем
Каменистый Артем Посняков Андрей
Посняков Андрей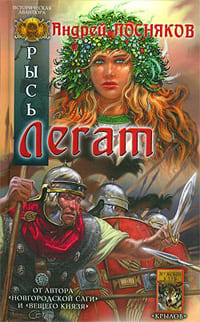 Посняков Андрей
Посняков Андрей Доценко Виктор
Доценко Виктор Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте