Максу предстояло еще миновать заброшенный дом ведьмарки, и мальчик очень
сильно надеялся, что ему не придется повстречаться... с кем-нибудь...
О кругах он уже и думать забыл - только не сейчас!
3
Он смотрел вслед убегающему детенышу, и теплая волна поднималась снизу
вверх, охватывала все тело: моим, этот будет моим. Этот и еще сотни таких
же, его родители, и родичи его родителей, и скот их, и птица их, и псы...
Он тихонько зашипел. "И псы".
И хотя был он здесь совсем для другого, он знал, что поразвлечься удастся
на славу. В конце концов, нужно же чем-то питаться, пока он будет искать
нарушителя - он и ему подобные.
Детеныш был уже далеко - во всяком случае, так думал детеныш. Но он знал,
что никуда этот не денется.
От него не сбежать.
И ярко-зеленая ящерка, замершая среди папоротниковых побегов, первой
убедилась в этом.
Часть первая. Круги на земле
Банко. Земля пускает так же пузыри,
Как и вода. Явились на
поверхность
И растеклись.
У. Шекспир. Макбет
...одно это слово в облаке приторно-гнилого дыхания. "Худеющий". И прежде,
чем Холлек успевает отшатнуться, старик-цыган проводит скрюченным,
изуродованным пальцем по его щеке.
С. Кинг. Худеющий
1
Добирались долго. На самом-то деле, наверное, Максу это просто показалось
- слишком уж жаркое выдалось лето. Как любят выражаться всякие там
писатели, "плевок не долетал до асфальта, успевая испариться прямо в
воздухе". Макс никогда не понимал, почему нужно писать непременно о
плевках, нет чтоб о чем-нибудь хорошем. Например, о мороженом. Серьезно, в
такие дни только добрая порция хрустящего шоколадного мороженого и может
спасти вас от солнечного удара. (Сам он не очень представлял себе, что это
такое, солнечный удар; почему-то вспоминался кадр из мультика, в котором
желтое упитанное солнце в черных противосолнечных - вот смеху то! - очках
протягивает луч-кулак и со всего размаху огревает беспечного пляжника по
затылку. Пляжник валится на полосатый коврик и закатывает глаза. Макс
знал, что на деле все бывает несколько иначе, но представлялось - именно
это...)
В общем, ехали долго, а во избежание, так сказать, солнечного удара, на
каждой остановке Макс отпрашивался на станцию, чтобы купить мороженого.
Дядя Юра поставил непременным условием, чтобы прежде Макс узнавал, сколько
времени будет длится остановка, и иногда, если считал, что мальчик может
опоздать, не отпускал его. Но чаще все-таки отпускал - пока не услышал в
голосе племянника подозрительные хрипящие нотки. Тогда всякие прогулки за
спасительным продуктом прекратились.
Макс повздыхал (больше для виду) и отправился на верхнюю полку смотреть в
окно. В душе он соглашался, что с мороженым пора заканчивать, но
остановиться не мог. Мороженое было его слабостью, и Макс это признавал.
Поезд, покачиваясь, мчался мимо деревьев, шлагбаумов, маленьких одно- и
двухэтажных домишек, мимо грязных, заросших тиной речек и непременных
столбов с электрическими проводами на серо-деревянных макушках. Мальчик с
завистью поглядывал на взъерошенные деревья за окном, поскольку здесь, в
их с дядей плацкарте, было жутко душно.
Макс вздохнул и заерзал на полке.
Он старался забыть, но все никак не забывалось: тусклый день, словно на
солнце накинули грязную марлю; кладбище - какое-то неестественно открытое,
распахнутое, слишком просторное; отец, весь в черном, строгий и собранный,
стоит над длинным, тоже черным, гробом; гроб украшен искуственными
цветами, матерчатыми и помятыми; в гробу - мама.
Но не это больше всего поразило Макса и оставило кровавый рубец в памяти
мальчика, не эта сцена пугала его в снах, нет. И даже не тот вечер, когда
телефон зазвонил, сухо и требовательно, неприлично долго. Отец поднял
трубку, молча, выслушал сказанное и засобирался. До Макса долетели только
отдельные слова: "дождь", "микроавтобус занесло", "нам очень жаль".
Уже стоя посреди комнаты, одетый, папа запнулся и, повернувшись к Максу,
как-то растерянно произнес: "Собирайся, сынок. Мама... мама умерла".
Даже не это.
А первый день, первый ужасный день, когда отец пришел пьяным. (Папа и
раньше бывал навеселе, но прежде это было не так... страшно). Отец
ввалился в квартиру, покачнулся и ухватился неловкими пальцами за дверной
косяк. Не снимая обуви, пошел на кухню и рухнул на табурет.
Макс с недоумением смотрел на пол, на котором чернели грязные отпечатки
ботинок; кое-где валялись кусочки земли, застрявшие в подошве, а теперь
отвалившиеся.
Мальчик стоял так очень долго, со стыдом глядя на то, как отец пытается
поджечь под чайником. Макс не то, чтобы не хотел помочь ему, он не мог
сдвинуться с места, ошарашенный происходящим.
Потом был провал в памяти. Наверное, если очень напрячься, можно и
вспомнить - но зачем? Макс не хотел вспоминать. Ему хватало того, что он
уже помнил.
Со временем мальчик привык к таким страшным вечерам - настолько, насколько
к подобному можно привыкнуть. Макс боялся их, он начал отставать в школе
по многим предметам, но отец совсем перестал интересоваться его оценками.
Хотя мальчик хотел бы, чтобы все было как раз наоборот.
В то же время Семен Николаевич не забыл о сыне. Он чувствовал вину перед
ним, но значительно проще оказалось лелеять собственное горе, чем
заботиться о Максе. И все равно, вина чаще и чаще напоминала о себе.
Наверное, именно поэтому, когда начались летние каникулы, отец позвонил
дяде Юре и попросил того взять мальчика с собой, когда Юрий Николаевич в
отпуск поедет в деревню, к своей матери (бабушке Макса). Мальчик давно уже
не был там, родители все никак не находили времени выбраться, а сына
отправляли на лето в детские лагеря отдыха. Теперь же Семен Николаевич
препочел отдать мальчика на попечение брата.
Сначала Макс испугался. Он знал, насколько беспомощным бывает отец. Почти
каждый вечер мальчику приходилось помогать папе; практически, он стал
хозяином в доме, как только привык к этому новому существу с наглыми
глазами и чужим голосом, - существу, которое звал отцом.
И Макс боялся того, что могло бы произойти, оставь он папу одного.
Но Семен Николаевич утром перед отъездом Макса сел на кровать, усадил
рядом сына, который до последней минуты не желал уезжать, даже не хотел
складывать сумку, - усадил и сказал, серьезно и вместе с тем непривычно
робко: "Езжай, сынок. Езжай. Видишь", - он протянул Максу какую-то
бумажку. Тот прочел. Это была реклама лечебного центра, где, помимо
прочего, гарантировалось "излечение от алкогольной зависимости". Последняя
фраза оказалась обведенной зеленым фломастерным кольцом.
- Мне будет проще, если ты уедешь, - сказал отец. - Езжай.
И Макс поехал.
2
Поезд приближался к Минску. На пригородных станциях в вагон пробирались
юркие мужчины с незапоминающимися лицами, предлагали какие-то книжки
нестерпимо громкими на фоне плацкартных перешептываний голосами; книжки,
разумеется, никто не покупал, но мужчины все равно приходили. Макс
наблюдал за их миграциями по проходу со своей верхней полки, и потные
коротко стриженные затылки вызывали у него чувство отторжения.
Еще приходили неизменно толстые бабки с картонными коробками, продавали
мороженое: шоколадное, кофейное, в стаканчиках, - любое. Макса все это уже
не прельщало, он сглатывал, чувствуя в горле, где-то под нижней челюстью,
колючий шар. Мальчик стал думать о том, почему все подобные торговки
всегда такие толстые, словно специально, чтобы раздражать людей. Он
представил себе маленькое окошечко кассы, у которого длинным хвостом
выстроилась очередь, в основном - толстухи, пожилые и усатые маленькими
крысиными усиками. Из окошечка высовываются длинные бледные руки, в
которых зажат серый портновский метр, этой лентой руки обхватывают
ближайшую толстуху в том месте, где должна была бы быть талия, и меряют.
Потом втягиваются в окошечко и появляются снова, уже с дымящейся пачкой
мороженого, которую торжественно вручают прошедшей испытание. Некоторым
же, недостаточно объемным, руки отрицательно машут: "Ступайте прочь,
прочь, не годитесь! Слишком худые".
Макс так живо вообразил себе эту абсурдную картину, что даже хихикнул.
Колючий ком в горле вздрогнул, и мальчик закашлялся. Дядя Юра внимательно
посмотрел вверх, на племянника, но промолчал.
Мальчик спустился вниз, сунул ноги в кроссовки и стал помогать ему
собираться. Дядя недавно повредил кисть левой руки и поэтому должен был


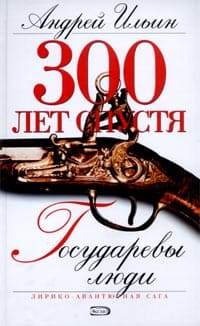
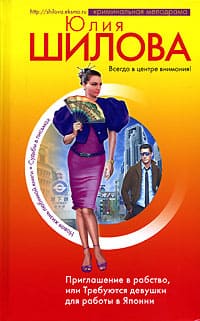
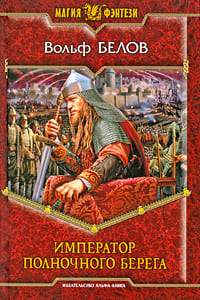

 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир Панов Вадим
Панов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий