расслабляться нити, управляющие руками, и руки стали совершать какие-то
движения, как бы пробуя себя на подвижность. Потом они замерли,
перевернулись ладонями вверх, и их развело в стороны. В правую мою руку
легла ледяная совершенно кисть Юрия Максимовича, в левую тыкались и никак
не могли попасть тонкие Наташины пальцы; я скосил, как мог, глаза - это
оказалось страшно трудно сделать - но увидел только пальцы по отдельности,
лишь через несколько секунд они собрались в кисть, почему-то
канареечно-желтую и прозрачную; как я ни силился, я не мог различить
ничего, кроме кисти, она существовала совершенно отдельно от тела. Потом
внезапно наваждение прошло - кто-то последний взялся за руки, круг
замкнулся. По-прежнему трудно было повернуть голову, по-прежнему свет ламп
существовал как бы сам по себе и не рассеивал мрак, но нити пропали, и все
мы обрели нормальный облик, хотя бы внешне. Наташа откинулась на спинку
дивана, распрямила в колене ногу и посмотрела на нее, убеждаясь, что все в
порядке; Элла, оказывается, до сих пор сидела согнувшись, скорчившись и
теперь потихоньку распрямлялась, тяжело и часто дыша, на этот раз она
выдержала и не кричала; Руслан был совершенно спокоен, будто ничего и не
происходило, его выдержке я всегда завидовал; Серега смотрел в пол; Юрий
Максимович, держась за наши руки, тихонько раскачивался в кресле, голова
его была запрокинута, раза два он глубоко вздохнул. Но фраза на неизвестном
языке продолжала звучать, и мы знали, что это только передышка. Она могла
затянуться надолго, но тем хуже было бы потом. Минуты тянулись томительно,
рождаясь и умирая на наших глазах, и мы ничего не могли сделать, чтобы
помочь им. Громче и громче звучала фраза, потом комната, в которой мы
сидели, отделилась от дома и, кружась и покачиваясь, стала подниматься косо
вверх, все быстрее и быстрее, и внезапно я понял, что она прикреплена к
ободу взбесившегося чертова колеса, высокого, до звезд и выше; на фразу
наложилась музыка, не всегда совпадавшая со словами, и эти несовпадения
ранили, как осколки стекла. Не сразу я понял, откуда взялись эти осколки, и
только потом я увидел, что одна из стен разбита вдребезги и через нее видны
горы, опрокинутые за горизонт, и ленточка заката, потом все это уплыло
вниз, сразу потеплело, надвинулся и разошелся в стороны бархатный пыльный
занавес, мелькнули чепцы, дилижансы и розы, свечи, горящие и погашенные,
глубокий туннель, уходящий в крепостную стену, лиловые пальцы, листающие
черный концертный рояль как книгу, из которой сыплются разноцветные буквы,
одна большая, вычурно выписанная не то В, не то Н уцепилась за край
страницы и висела, дрыгая ногами, с ноги сорвалась туфелька и упала мне на
колени, навстречу нам ринулся бесконечный, с крутыми поворотами коридор,
туфелька вдруг стала раскаляться и жечь мне ноги, я стряхнул ее на пол, но
пропустил момент, когда взлет сменился падением. По рукам прошел
электрический ток, прошел медленно и несильно, но пальцы рук свело, и мы не
смогли бы их расцепить, даже если бы и захотели. Свистел и завывал ветер, в
лицо летели желтые листья, искры и мертвые бабочки, потом падение
замедлилось и комната замерла в неустойчивом равновесии, то есть это была
не совсем комната, потому что у нее совсем не было стен, просто кто-то,
смеясь, поддерживал мебель в прежнем положении, а вокруг был непроглядный
мрак, темень, хлябь. Фраза на неизвестном языке звучала все громче,
ослепительно громко, слова били по голове, как палочки по барабану, и вдруг
перед нами на уровне лиц из ничего возник зеркальный ртутный шарик, который
рос и колыхался наподобие медузы, и в его глубине мы увидели себя, только
там мы почему-то стояли, а не сидели, подняв вверх сомкнутые руки; снова
начался взлет, ватная тяжесть навалилась сверху, и что было на этом витке,
я не запомнил, похоже, что ничего и не было, только дым, едкий, как от
плохого угля. Потом комната ухнула вниз, да так, что дыхание остановилось,
и опять замерла, но на этот раз еще страшнее, потому что теперь стены были,
но они были только коростой, тонкой коркой, по которой змеились трещины, а
из трещин проглядывало что-то невыносимо горячее, неистовое, веселое,
готовое ворваться и испепелить; шар возник сразу, толчком, и так же
толчками стал увеличиваться, раздуваться, будто протискивался откуда-то, и
все громче звучала та фраза на неизвестном языке, все громче и все
повелительнее, и тут я впервые почувствовал, как вдоль позвоночника ударила
горячая струя, прошла через затылок и уперлась в переносицу, чужие пальцы,
ставшие вдруг нетерпеливыми, выдавливали ее из меня, как из тюбика, от
напряжения я почти ослеп, но увидел, что в зеркале отражаемся вовсе не мы -
там стояли кружком и взявшись за руки люди с крысиными головами, и именно
они произносили эту бесконечную фразу на неизвестном языке! Что-то там еще
было, позади них, но я не понял, что именно, потому что опять начался
взлет. Накатила и схлынула зеленая волна, я перевел дыхание и посмотрел на
шар, но не увидел его, и не потому, что его не было, а просто на него
нельзя было смотреть. Разноцветными бусами протянулись и повисли слова,
много слов, целые моря и кладбища слов, они свивались спиралью вокруг того
коричневого сгустка, в который превратился шар, когда на него нельзя стало
смотреть, и сгорали, сгорали, сгорали; на смену им прилетали другие, они
летели на него, как бабочки на огонь, и бабочки тоже летели, еще живые, они
умрут только в позапрошлый раз, умрут и смешаются с искрами, это длилось
долго, слишком долго, невыносимо долго, достаточно долго, чтобы понять, что
это никогда не кончится, и это не кончилось бы, но ворвался ветер,
подхватил горящие страницы и унес, и мимо проплыли огромные рыбины, лениво
шевеля плавниками, глаза у них были размером с апельсин и слегка косили,
потом открылась равнина, и по ней в шахматном порядке маршировали колонны
солдат, и низко-низко над землей, клубясь, летели облака, потом край
равнины завернулся и начал скатываться, как ковер, под ковром был паркет с
вылетевшими плашками, в плашках были проделаны ходы, там обитали люди
размером с муравьев, они любили, ссорились, сходились и расходились, у них
была интересная и насыщенная жизнь, и они не знали еще, что паркет
собираются ремонтировать; однажды хозяйка помыла полы, и у них возникли
легенды о потопе; потом потоп прекратился, воды схлынули, и на берегу
осталась масса самых удивительных предметов, но я почти ничего не успел
рассмотреть, потому что комната вновь понеслась вниз, вновь захватило дух
от стремительного падения, а фраза на неизвестном языке звучала все громче,
и вихрем снесло пепел с шара, чужие слова били по голове, оглушая и
ослепляя, заставляя подчиняться, подчиняться с радостью и восторгом, с
восторгом освобождения от всего человеческого, горячая струя, пронзая все
тело, изливалась из переносицы и била в шар, в эту пленку, теперь я
понимал, что это пленка, а за ней стояли, взявшись за руки, шестеро, а за
ними по шесть в ряд стояли, стояли, стояли, подавшись вперед, крысы, крысы,
крысы, крысы с человеческими туловищами, с человеческими руками и ногами -
крысы, много, страшно много крыс, и все они рвались сюда, в наш мир, к нам,
а мы отсюда помогали им прорваться, я понимал это каким-то неподчиненным
еще им уголком сознания, но этот уголок не был властен надо мной, меня мяли
и выжимали чужие руки, и из последних сил я старался прожечь эту преграду,
что стояла между ними и мной, прожечь ее и пустить их сюда, в наш мир, это
и было смыслом всей моей жизни, собрать все силы и еще, еще, еще сильней,
чтобы лопнула преграда, еще сильней, ну сильней же!!! - и вдруг все
прекратилось. Шар еще оставался, но он стремительно мутнел и съеживался и
вот пропал совсем, ничего после себя не оставив, ничего больше не было,
ничто не звучало, горел свет, встала и прошла мимо меня Наташа, встал
Серега, они что-то делали, потом Наташа сказала мне: ну, что же ты? - а
Элла стояла и зажимала рот руками. Серега с Русланом перенесли Юрия
Максимовича на диван, Наташа придерживала ему голову, Элла пыталась поить
его водой, а потом побежала вызывать "скорую", но пульса у него уже не было
и сердце не билось. Совершенно не помню, как приезжал врач, хотя потом мне
сказали, что именно я с ним объяснялся. Хлопоты по похоронам взял на себя
Руслан - он знал, как это делается. Я зашел к своему другу Сидоренко,
кладбищенскому скульптору, и договорился с ним о памятнике - чтобы быстро и
недорого. Ночи мы переживали по-отдельности. На похоронах было довольно
много людей, и только там мы узнали, что наш Юрий Максимович полковник в
отставке и Герой Советского Союза. На кладбище мы последний раз собрались
впятером...
С кладбища мы поехали к Наташе - мы с ней вдвоем. Мы знали, что остальные
не придут. Мы страшно устали друг без друга, поэтому обнялись сразу, едва
войдя в комнату. Мы торопились, потому что был вечер и надвигалась темнота,
мы торопились и говорили разрозненные слова и потому не успевали сказать
что-то главное - и так и не успели, мы торопились и ласкали друг друга
почти лихорадочно никогда такого не было с нами, и никогда еще не было
такой горечи. Наверное, тела уже прощались, пока души искали утоления...
Потом мы лежали, взявшись за руки, и ждали, когда наступит темнота, и она
наступила.
...Все началось сразу, по пробитой уже дорожке. Звенящие нити грубо стянули
наши руки, а в ушах загрохотала та бесконечная фраза на неизвестном языке,
и сразу же появилась ртутная точка, рывками, судорожно, конвульсивно
протискивающаяся в наш мир; теперь они считали, что мы у них в руках и
можно не церемониться, и не пытались маскировать свои намерения, и были
правы, наверное, только вот злости они не учли. У меня был уже не только
страх, была и злость, и не только у меня, а и у Наташи. Было нечеловечески
трудно разорвать руки, но мы их разорвали, пусть для этого мне пришлось
упереться ей в грудь ногой - мы их разорвали все-таки, Наташа отлетела к
стене и осталась сидеть, вероятно, ее тут же оплели щупальца, а я оказался
на полу и завороженно смотрел, как сидящая на кровати божественно красивая
женщина превращается в грубо размалеванный гипсовый барельеф; потом в
ямочке между ключицами что-то шевельнулось, и приоткрылся глаз, черный,
недобрый и внимательный, и взгляд этого глаза был тяжел и осязаем. С трудом
я встал и засунул ноги в джинсы, в бездонные колодцы штанин. В уголках рта
Наташи гипс треснул, и она сказала: уходи. И еще она сказала: завтра.
Ощущая на себе взгляд ее третьего глаза, я вышел в коридор, наощупь нашел
дверь и вывалился наружу. Не знаю, как я оказался в подвале, в дровяном
подвале, этот дом недавно еще отапливался печами, какой-то инстинкт меня
туда привел - а может быть, понимание, что надо забиться сейчас подальше и
от простых людей, и от нас: вдруг кто-нибудь не выдержит и побежит искать
помощь... Никакими словами нельзя передать, что наваливалось на нас этой



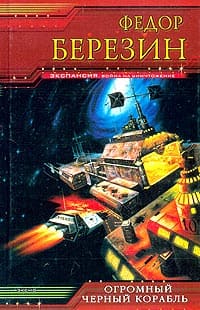

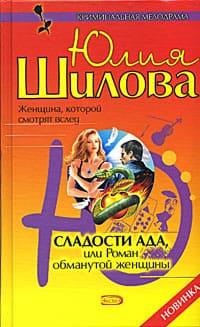
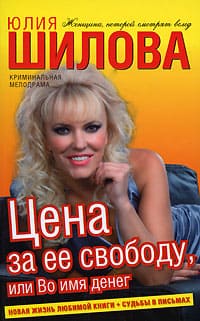 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукин Евгений
Лукин Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор Прозоров Александр
Прозоров Александр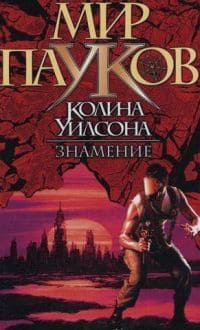 Прозоров Александр
Прозоров Александр