зверь посерьезнее! Взгляни, как лицо каменеет! И глаза, глаза!..
связать?
Сарагоса. - Только, девонька, рубить да колоть не надо, ублюдок этот -
дорогой товар... Ежели что, бей плашмя! - Пал Нилыч, грозно насупив брови
и стиснув кулаки, уставился на пленника. - Ну, сейчас я с ним разберусь, -
будто бы про себя пробормотал он, - разберусь... не погляжу, что морда
каменная и взор орлиный...
его от темноволосого. - Погоди, есть у меня мысль получше. Тот, в красном,
которого я видел, на деревья любовался... Пусть и этот полюбуется! Посадим
его туда, - он махнул в сторону внутренней галереи и хрустальных окон, - и
поглядим, что будет.
князь! Отдышится эта погань да нырнет в ближайшее окошко - только его и
видели!
дорогой! Что-то с ними там происходит... там, поддеревьями... что-то
странное... Перворожденные в пляски пускаются, а эти, Воплотившиеся, вроде
бы... хмм... - он забрал бороду в кулак, дернул ее, словно собираясь
вырвать с корнем, и произнес: - Вах, давай-ка рискнем, Нилыч! Если он
удерет, так за другим я пойду.
на Скифа и Сийю, застывшую с обнаженным клинком, и кивнул.
Попробуем сделать, как ты сказал. Пусть Скиф затащит ублюдка под дерево,
заодно и листик сорвет, ну а мы...
Вот только дверь...
было напрягся, но Скиф держал крепко, памятуя, что оборотень в секунду от
него не ускользнет - для преобразований метаморфам требовалось время. Но
темноволосый трансформироваться вроде бы не собирался, а глядел на своего
пленителя уже почти с осмысленным выражением, и взгляд сей Скифу не
нравился. Так смотрит волк, выбирая, вцепиться ли жертве в глотку или
запустить клыки в пах. Губы у темноволосого были плотно сомкнуты,
подбородок выпячен, а зрачки казались уже не серыми, а угольно-черными и
колючими, как пара игл - не тех, которыми шьют, а тех, что под ногти
запускают.
дыхание, подождал, пока Джамаль откатит дверь; затем швырнул худощавого
пленника в желтую траву, не заботясь особо, врежется ли он в землю головой
или плечом. Джамаль, прикрыв за собой створку, с черноволосым тоже не
церемонился - схватил за ворот и за рукав, оттащил к деревьям и выскочил
наружу. Каждый раз дверь была открытой секунды три, и медвяные запахи
падда растворились в теплом и свежем воздухе галереи, как дым от Пал
Нилычевой трубки. Потянув носом, Скиф убедился, что ничем подозрительным
не пахнет, и хотел было окликнуть Сарагосу и Сийю, но звать их не пришлось
- и шеф, и ласточка уже стояли рядом.
Сарагоса сопел и дымил трубкой, звездный странник, вцепившись в бороду, не
спускал глаз с лица темноволосого, Сийя замерла, и только ее теплое и
прерывистое дыхание, касавшееся щеки Скифа, показывало, в каком она
напряжении. "Никуда красный не уйдет, - мелькнуло у Скифа в голове, -
шевельнется не так, ласточка сама дверь откатит и приколет кинжалом".
Подумав об этом, он придвинулся к Сийе поближе и обнял ее за талию - на
всякий случай.
поглядывал одним глазом на пленника, а другим - на своего нового агента. -
Ну, показалось тебе что-то... сам не знаешь что...
сел. Сейчас Скиф мог лучше рассмотреть его лицо, но каких-то особых
перемен в нем не замечал; оставалось оно по-прежнему каменным,
оледеневшим, каким человеческая физиономия бывает в жизни только раз - в
тот момент, когда жизнь кончилась. Потом щеки у оборотня вроде бы начали
розоветь, а губы - подергиваться, и Скиф принял это за признаки гнева;
вероятно, темноволосый оринхо пришел в себя и догадался, какое насилие
учинили над его властительной персоной.
гневе щеки то наливаются кровью, то бледнеют, однако изгиб бровей и прищур
глаз и даже морщинки на лбу - иные; гнев заостряет всякую черточку,
отчаяние же размывает ее, обезличивает, и потому в гневе и радости люди
разные, а в отчаянии - похожие, словно у горя одна маска для всех.
затрясся: плечи его ходили ходуном, руки дрожали, словно у древнего
старца, а грудь под алой тканью одеяния то вздымалась порывисто, то
опадала, словно он дышал и не мог надышаться медвяными ароматами дурных
снов. Глаза же у него были такими, будто сны эти посетили властительного
оринхо прямо наяву.
воспоминаний! Или память была слишком свежей и горькой?
неверным шагом направился к двери. Джамаль приоткрыл ее чуть-чуть, а Скиф,
вытянув руку, втащил пленника за спасительную перегородку. Сладкий аромат
ударил в ноздри, Сийя брезгливо сморщилась, Сарагоса с яростью выдохнул
клуб дыма; запахи табака и меда смешались в воздухе, растаяли, исчезли.
Оринхо опустился на колени у самой стены, и Скиф заметил, что косточки
пальцев у него побелели - пленник вцепился в лицо с такой силой, будто
хотел содрать его напрочь.
заглянул в зрачки. Они снова были серыми.
Можешь говорить?
Карателя?
Только не отсюда. Слышал про Землю? Ну, так запомни: кара вам пришла с
Земли.
Это невозможно! Невозможно! Есть лишь одна дорога сюда! Одна-единственная!
Дверь в тайо и потом - путь над черной бездной отчаяния... - он что-то
забормотал, задергался и вдруг, уставившись в хмурое лицо Сарагосы,
спросил: - Как вас зовут? Если вы с Земли, у вас должно быть имя!
родился и живет. - Сарагоса сделал паузу, затем, приподняв брови, буркнул:
- Ивахнов Павел Нилович. Я... хмм... в общем, неважно, чем я занимаюсь. Я
здесь не случайно. А ты...
Хорчанским...
бессвязных его речей Скиф догадался, что Хорчанский, нарколог по
специальности, имел дело с "голдом". И не только имел, но и доложил куда
следует, а в результате очутился здесь. Вернее, сюда отправилась его душа,
присвоенная неким безымянным сархом, а тело, которое нашли на даче, скорей
всего уже кремировали или закопали. Он не помнил подробностей, не ведал,
кому и как удалось его подловить; знал только, что находится здесь лишь
несколько дней.
размеренно и спокойно, отвечая на вопросы Пал Нилыча. Разумеется, с
Хорчанским его связывала лишь зыбкая нить воспоминаний; он был
Воплотившимся сархом, оринхо, проходившим подготовку в Тихих Коридорах, и
только аромат падда вызвал Хорчанского из небытия - точней, подавил на
время разум двеллера, завладевшего его личностью. Время это исчислялось
тридцатью-сорока минутами, и потому Хорчанский (сейчас, пожалуй, Скиф не
мог называть его иначе) торопился; хотел рассказать все, что знал, и
сделать все, что хотел.
сильнейший шок - тем сокрушительней, чем выше был интеллект имплантируемой
в их сознание личности. Причиной шока являлось не одно лишь возникающее
ощущение собственного "я", способное потрясти Перворожденного; вместе с
этим чувством, пленительным и драгоценным, приходило все, что связано с
самосознанием, все опасения и ужасы, таившиеся в глубине души Дающего,
мутный и жутковатый поток инстинктов, неясных воспоминаний, интуитивных
страхов. И главным из них был страх смерти, внезапное и резкое ощущение






 Перумов Ник
Перумов Ник Аникина Наталья
Аникина Наталья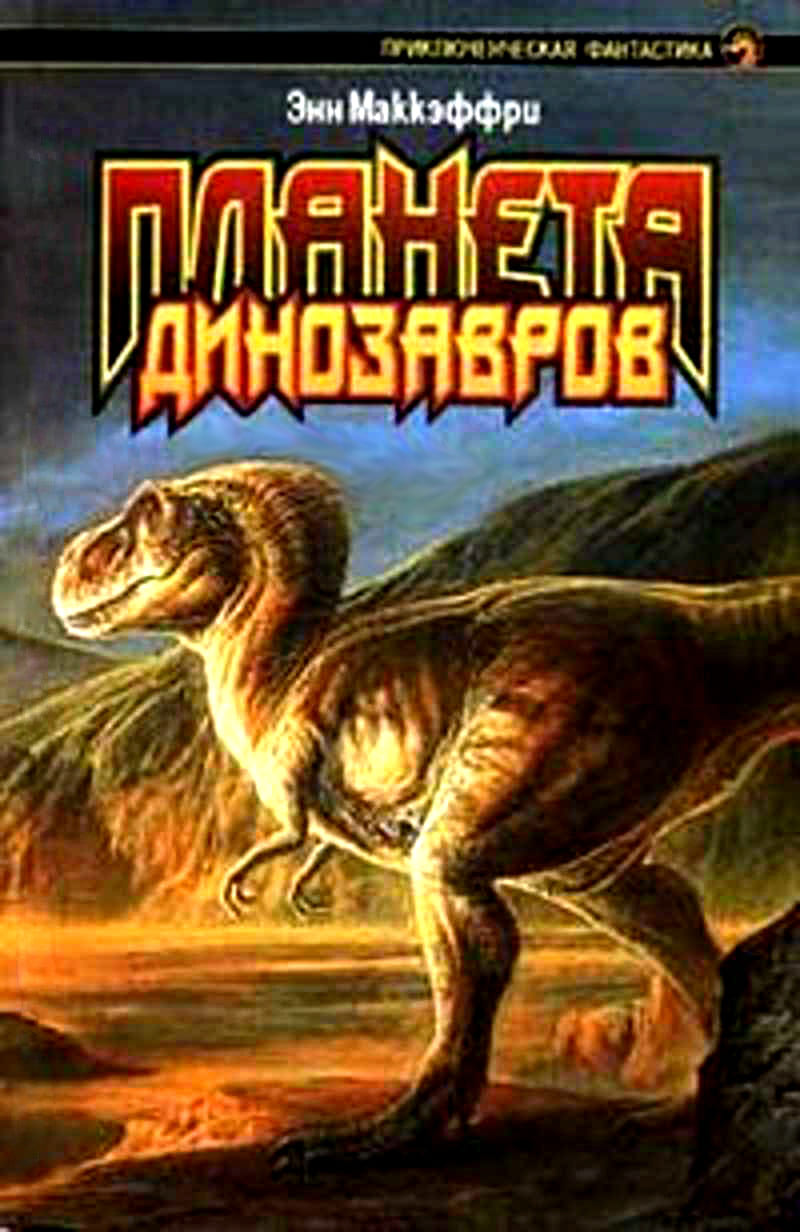 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн Майер Стефани
Майер Стефани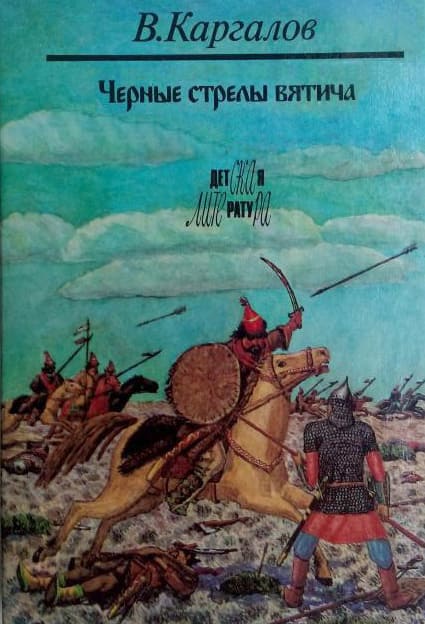 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Якубенко Николай
Якубенко Николай