величественными и нереальными. Завораживающе красивыми...
вперед с упорством загнанного зверя. Предчувствие его не обмануло - лес
поредел, перешел в предгорье, характер местности менялся на глазах. Идти вскоре
пришлось через курманы - стотонные глыбы, одетые в кедрач. Они, эти глыбы,
играли, раскачиваясь, и каждый промах, неверный шаг давал ощущение почище, чем
на американских горках. Чувство последнего в жизни шага. За которым - ничто.
Так, поневоле участвуя в этом дьявольском аттракционе, Буров прошкандыбал всю
ночь и аккурат перед рассветом вышел к Кровавой скале. Точь-в-точь такой, как
ее описывал шаман - отвесной, словно вырубленной топором, цвета киновари, с
остроконечной, словно бычий рог, вершиной. Перед ней идеальным полукругом
лежала каменистая пустошь, границу ее отмечали небольшие, вытесанные из гранита
пирамидки. Шаман называл их ошо - вехами, знаками жизни. А еще он рассказывал,
что раньше у Кровавой скалы находилась Золотая баба, ее в незапамятные времена
поставил туда верховный бог Ур. Чтобы забирала на себя все людское зло и
отправляла его на небо, очищая землю. Так продолжалось долго, многие тысячи
лет. Потом Золотой бабы не стало, и некому теперь справиться со злом,
скопившимся за вехами ошо. Плохое сделалось место, опасное, однако. Только
Айыы-шаманы и Великие воины могут появляться здесь и заходить в пещеру Духов,
чтобы Мать Матери Земли Аан открывала им двери в другие миры. Трусам,
педерастам и ментам путь сюда, однако, заказан.
переводя дыхание, высморкался и тут же обостренные рефлексы заставили его
броситься бежать. Спотыкаясь, падая, из последних сил. На пределе возможностей.
захлебывающееся, с судорожными повизгиваниями тявканье. Это значит, что
псари-кинологи на всю длину отпустили по водки, и собачки, как ополоумевшие,
рвутся с них по его, Бурова, душу. Судя по гаму, барбосов с полдюжины, от всех
не отмахнешься. Да и пока суть да дело, вэвэшники подтянутся. В скверном
настроении, с калибром пять-сорок пять. Да, ситуевина.
долетел до границы, отмеченной ошо, остановившись на миг, вытащил заточку и, с
легкостью перешагнув невидимую грань, рванул из последних сил к скале. "Великие
мы воины, такую мать, или нет?"
открытого рта вырывалось судорожное хрипение. Очень похожее на предсмертное.
Однако подыхать Буров пока что не собирался. А если уж придется - то в тесной
компании. На бегу он поудобнее взялся за нож, мысленно настроился на последний
решительный бой и все крутил, крутил головой, оглядываясь назад. Словно
ас-истребитель. Ну, где же вы, собачки, лучшие друзья человека? А вот, наконец
появились. И верно, полдюжины, шесть хвостов. Шесть зевлоротых, отверстых
пастей, двадцать четыре сильных лапы, а уж клыков и не сосчитать. Разъяренные,
взмыленные, готовые убивать. Ближе, ближе, ближе. Рычание, пена, горящие глаза.
Не домашние животные - зверье. Только вдруг все резко переменилось. Добежав до
невидимой черты, отмеченной вехами ошо, псы словно налетели на какую-то стену -
заскулив, остановились, сникли, поджали хвосты и принялись выть. Словно по
покойнику. Однако уж во всяком случае не по Бурову. Сразу воодушевившись, тот
прибавил шагу и направился к треугольному, в обрамлении мхов, неприметному
отверстию в скале. Скорее всего, это и был вход в пещеру Духов, где обреталась
та самая Матерь Матери. Самое время познакомиться с ней...
величаво выплывало из-за красно-кровавой скалы. А у заповедной, помнящей
тысячелетия пустоши появились между тем гвардейцы-вэвэшники. С ходу было
сунулись вслед за Буровым, однако сразу же утратили весь свой пыл и,
растерявшись, сбившись в кучу, замерли. Правда, в отличие от псов, без
повизгиваний, организованно и молча. Не понимая, откуда взялся этот
безотчетный, не поддающийся оценке ужас.
лейтенант, проглотил слюну и вяло приказал: - Снайпер, огонь!
предохранителя СВД, с клацаньем дослал патрон, изготовился, прицелился, нажал
собачку. Выругался, дернул затвором, снова надавил на спуск. Ничего. Только
страх, пот в три ручья, дрожь в пальцах да щелканье бойка. Осечка. Еще одна.
Еще. Это у надежной-то, проверенной временем винтовки Драгунова...
не испытывая ничего, кроме одуряющей усталости, нырнул в узкий, в обрамлении
лишайников, лаз. Замер на мгновение, осматриваясь, удивленно присвистнул и
побежал вперед по уходящей вглубь галерее. Шаман так и говорил - сигай смело,
небось не споткнешься. Фонарь там без надобности.
покрытые светящимися бактериями, излучали тусклое багровое сияние.
было плюнуть, но сдержался, проглотил тягучую слюну и даже не заметил, как
очутился в громадном - девятиэтажный дом построить можно! - зале. Истинные
размеры его терялись в полутьме, потолок был в сталактитах, стены - обильно
усыпаны кристаллами гипса. Он совсем неплохо подошел бы под пещеру Алладина.
вдруг непроизвольно обернулся. Всматриваясь, затаил дыхание, приоткрыл, чтобы
лучше слышать, рот - инстинкт подсказывал ему, что он здесь не один. Кто-то был
там, в багровом полумраке, в самой глубине пещеры. Буров явственно почувствовал
интерес к своей персоне, внимательную настороженность, сменившуюся
расположением, сразу же ощутил спокойствие и умиротворенность, а когда на
сердце сделалось тепло, то ничуть не удивился голосу, тихому и манящему:
туманящей рассудок музыкой.
словно он брел по мутному, ленивому ручью. Что-то странное было в этом тумане,
непонятное. Он существовал как бы сам по себе, не признавая законов
термодинамики, не образуя турбулентных следов, не замечая ни воздуха, ни
твердых тел. Словно был живым. Он наливался мутью, клубился, густел на глазах и
постепенно поднимался все выше и выше. По колени Бурову, по бедра, по грудь. А
тому было все по хрен, он брел как во сне, увлекаемый манящим голосом:
клубящимся капюшоном. Странно, изнутри оно было не мутно-молочное, а
радужно-разноцветное, весело переливающееся всеми богатствами спектра. Словно
волшебные стекляшки в детском калейдоскопе. От этого коловращения Буров
остановился, вздрогнув, затаил дыхание и неожиданно почувствовал, что и
сознание его разбилось на мириады таких же ярких, радужно играющих брызг. Не
осталось ничего, ни мыслей, ни желаний, только бешеное мельтешение
переливающихся огней. Вся прежняя жизнь - работа, зона, беснующиеся овчарки
остались где-то там, бесконечно далеко, за призрачной стеной клубящегося
тумана... Потом перед глазами у Бурова словно полыхнула молния, на миг он ощутил
себя парящим в небесах, и тут же радужная карусель в его сознании остановилась,
как будто разом вдруг поблекли, выцвели все краски мира. Стремительно он
провалился в темноту. Такую же непроницаемую и беспросветную, как и черная
полоса последних трех лет его жизни.
высеченная на надгробном, несколько просевшем камне. Рыжие закатные лучи
освещали ее невинную улыбку, пухленькие ножки младенца и еле различимую,
выбитую не по-нашему надпись. Полустертую, похоже, на латыни.
поджав, чтобы согреться, колени к животу, принялся оценивать ситуацию. Та не
особо радовала. Он лежал, в чем мама родила, подобно недоноску в банке, и с
тоскою чувствовал, как желудок поднимается к горлу.
собаки, вэвэшники, пещера с туманящей цветомузыкой. В общем, здесь помню, здесь
не помню. Как в том кино. А вокруг - могилки, надгробия, провалившиеся склепы.
Ландшафт не для слабонервных. Но это еще ничего, терпимо. А вот запах...
Непередаваемая вонь разлагающейся плоти, застоявшейся клоаки, перегнивающей
земли. Оглушающая, давящая на психику, убивающая в душе все живое. Так,
наверное, воняет в аду, если не считать, конечно, запаха серы.
живот, поднялся на карачки, встал и тут же согнулся в неудержимой, нахлынувшей
девятым валом рвоте. Желчью, до судорог в желудке. Внес, так сказать, свою
струю в пронзительное кладбищенское зловоние. Изрядно попугал и Богородицу, и
младенца. Но хоть не напрасно - стало легче. В голове прояснело, живот
отпустил.
отвернулся, ладонью вытер рот и стал, сколько позволяли сумерки, производить
рекогносцировку на местности. Кладбище было необъятным исполинским полем,
сплошь изборожденным рытвинами могил и обрамленным по своим границам
островерхими, с подковами аркад, зданиями. Крыши их были основательно утыканы
печными трубами. Да, центральным отоплением здесь и не пахло. Только гнилью,
трупами, истлевшими гробами.
высматривая подробности, хмыкнул оценивающе, прищелкнул языком и вдруг, даже не
осознав еще толком, что произошло, почувствовал себя как-то неуютно. Карету
увидел. Внушительную, запряженную четверкой, с зажженным фонарем и поклажей на
империале. С кучером и двумя форейторами, сноровисто размахивающими руками.
Бурову даже почудилось, что он слышит свист кнутов, грохот ободьев по булыжной
мостовой, дробное постукивание копыт и ржание понукаемых лошадей. Карета
протащилась вдоль домов, мигнула на прощание фонарем и скрылась. Будто
ненадолго вынырнула из прошлого. Не тачанка, блин, не арба, не телега. Карета.
Приземистая, в полумраке похожая на бочку. И очень мало похожая на обман
зрения...


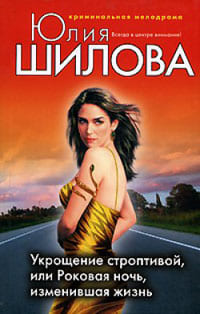



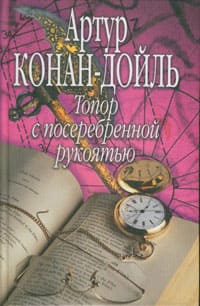 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Корнев Павел
Корнев Павел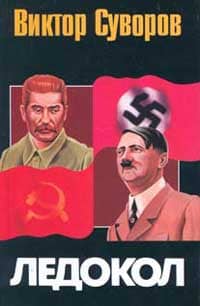 Суворов Виктор
Суворов Виктор Прозоров Александр
Прозоров Александр Круз Андрей
Круз Андрей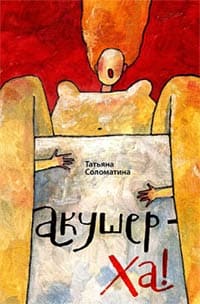 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна