Франц ФЮМАН
БУМАЖНАЯ КНИГА ПАБЛО
бумаги. Напротив: их же ведь хранят в специальных библиотеках, окружив
самым бережным уходом, и выдают там в пользование ученым. Даже частным
лицам разрешается иметь бумажные книги, читать их, более того - одалживать
другим; вот только превращать их в предмет торговли запрещено, ибо как
материальное, так и культурно-историческое значение книг бесценно. Против
подобных мер защиты нечего возразить, и посему вполне понятно, что в
соответствии с конституцией и устоями Унитерры некоторые книги
засекречены: одни из-за аморального, то есть антиунитеррского, содержания
либо иного вредного или по всей вероятности вредного содержания, остальные
- по другим причинам. К ним имеет доступ лишь крайне ограниченный круг
лиц.
заселенной территории насчитывалось ни много ни мало 82.347 полностью
сохранившихся бумажных книг первой категории и 1,2 миллиона экземпляров
второй. Бумажной книгой считалось: "Произведение печати любого вида,
материализованное на субстратах растительного или животного происхождения
и доступное для потребления без механических приспособлений (читального
прибора, пленки, звуковоспроизводителей и проч., за исключением очков и
простейших луп)." К бумажным книгам второй категории относились еще
фотоснимки. Книги второй категории представляли собой изделия, не имевшие
почти никакой исторической и материальной ценности: пустые бланки
массового употребления, разрозненные листки календаря, обложки от книг,
почтовые конверты. Зато исписанная открытка в зависимости от текста могла
попасть и в первую категорию.
бумажных книг первой категории у частных лиц для проверки и регистрации.
Сокрытие подобного имущества каралось надлежащим образом, как правило -
смертной казнью. Большинство экземпляров книг после регистрации было
передано в библиотеки как национальное достояние. Правда, в тридцати и
одном случае бумажные книги такого рода возвратились к своим владельцам. О
книгах второй категории необходимо было в обязательном порядке заявить,
указав прежде всего со всеми подробностями способ их приобретения. Эти
бумажные книги пользовались огромным спросом у коллекционеров. Например,
ничем так не гордился отец Жирро, куска искусственного мыла (стоимостью 49
марок 9 пфеннигов) в "СУПЕРУНИВЕРСАМЕ" города под названием Берлин,
который сгинул с лица земли еще в первую атомную войну. Эта уникальная
вещица, помещенная в защитный футляр из флюоресцирующего стекла, висела на
торцовой стене семейного жилотсека, побуждая отца Жирро с приходом гостей
пускаться в философствования по поводу прогресса человечества: мол,
раньше, в стародавние и мрачные времена, люди были вынуждены покупать
искусственное мыло в магазинах, а вот у нас, в Унитерре, правительство,
которое только и знает, что печется о благе народа, каждый месяц бесплатно
выдает кусок мыла-эрзаца. Дескать, ну как тут не испытывать чувства
благодарности. Гости кивают, изумляются, восхищенно охают, добавляя затем,
как обычно: "Значит, погоди-ка, тысяча четыреста пятьдесят восемь лет тому
назад... Невероятно!" - и снова кивают.
тех, тридцати и одной, оставшихся у своих владельцев. Не вдаваясь в
подробности, здесь, очевидно, достаточно только упомянуть, что как-то раз
по заданию камрада начальника столичного контрольного отряда Пабло
пришлось заниматься изобретениями. И весьма благоволившая ему подруга
начальника одолжила, раздобыв у своих знакомых, эту самую бумажную книгу.
Важно, однако, заметить, что книги из бумаги принципиальным образом
отличались от своих записей на микрофильмах и читальных пластинках,
укоренившихся в обиходе в промежуток между первой и второй атомной войной.
[Не говорю уже о так называемых "концентратах содержания" для запоминающих
устройств по культзнаниям, которые, например, а Унитерре выглядели так:
"Макбет"; трагедия в пяти актах У.Шекспира (1564-1616), написана белым
пятистопным ямбом; тема - изгнание несправедливого тирана народным
ополчением". А в Либротерре подобный концентрат выглядел так: "Макбет",
пятиактовик Шекспира Уильяма (1564-1616); характеризуется гаммовой
структурой трагиконфликтного столкновения трех неразрешенных Эдиповых
комплексов в рамках архаикофеодального социомикростроя". - Прим. автора.]
В таком виде удалось сохранить тексты многих произведений мировой
литературы, начиная с эпоса о Гильгамеше, Данте, Беккета и кончая Смитом,
и Шмидом. А одним из свойств бумажной книги, повторяем, являлась годность
к употреблению без механических приспособлений, или, проще говоря, когда
Пабло взял бумажную книгу в руки, он понял, что это такое.
погладил податливый серо-голубой переплет, и у него закружилась голова.
Книга покоилась на ладонях словно живое существо, он попытался приоткрыть
ее, и она раскрылась; рука чувствовала сопротивление и покорность, линия
шрифта складывалась в блоки, пока не раскрывшие своей сути, хотя уже
вполне различимые. Страницы изгибались вроде холмов с тенистой долиной
посредине. И пальцы Пабло, скользившие по рядам знаков, тоже отбрасывали
тени. Он различал очертания букв, источавших запах мглистой дали, шелест
струящихся страниц, родника неизбывно льющегося времени. Он пока не читал,
а только рассматривал книгу, впитывая ее в себя всеми органами чувств. Вне
машины ни микрофильмы, ни пластинки с текстами не были вещью, которая
поддается восприятию, раскрывая себя: микрофильм представлял собой
малюсенькую трубочку, которую руке невозможно было отличить от пачки со
слабительным или с таблетками для аборта. Читальные пластинки были в
лучшем случае, да и то в устаревших формах, кусочком пластмассы размером с
ноготь. Чаще всего их сразу встраивали в машину: стоило нажать на клавишу
вызова, и возникал шрифт - стандартное изображение из растровых точек,
пригодное для передачи любой информации, неосязаемое и беззвучное, без
запаха и без вкуса, никоим образом не соотносимое с естественными
пропорциями органа человеческих чувств, а тем более глаза. Точно так же
нажатием на клавишу любого другого компьютера включается стиральная или
селективная машина, калькулятор или будильник, поисковый прибор,
помогающий отыскивать свой жилотсек.
на ладони, как птица в гнезде - возьмем хотя бы это сравнение вместо того,
которое напрасно силился подыскать Пабло. И каждая из ее страниц являла
собой некий образ, контуры которого можно было обмерить взглядом, являла
меру сомкнутого пространства, а значит - времени. Обозримую и потому
человечную меру, которая позволяла соразмерять и отмеривать, сколько
страниц тебе еще прочесть: две, а может, три, семь или сто. На дисплее или
под лупой читального прибора буквы тянулись бесконечной вереницей, там
можно было, правда, регулировать скорость, а захочется - в любой момент
остановить, но тогда текст, замерев, превращался в неясное чередование
слов, бесформенный, лишенный перспективы, случайный фрагмент, где зачастую
и предложения-то не различишь. Простор, открывавшийся мысли на страницах
книги, становился конвейером в читальном приборе, переползавшем с места на
место при нажатии на кнопку, от которого срабатывало восприятие и
механически подключался мозг. Даже проследив весь путь такой ленты,
человек не мог уловить сути. В лучшем случае текст оставался цитатой. По
трубочке с микрофильмом нельзя было распознавать, сколько часов чтения в
ней кроется. А бумажная книга и на вес и на вид сразу давала понять, с кем
имеешь дело. Она, будто знакомясь с тобой, указывала на переплете свое имя
- заглавие, вот и здесь: "В тяжкую годину". Этот томик появился на свет в
один год с кассовым чеком отца Жирро и содержал три текста на немецком, в
ту пору еще не смешанном с английским, которые назывались "рассказы".
Пабло не знал, что это такое, да и авторы были ему незнакомы.
так:
не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат.
Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение
коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному
солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной
колонии предстоящая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала.
Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине,
замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и
путешественника находились только двое: осужденный, туповатый, широкоротый
малый с нечесаной головой и небритым лицом, и солдат, не выпускавший из
рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от
запястий, лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными
цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья
покорность, что казалось, только свистнуть перед началом экзекуции, и он
явится".
знал, что такое "исправительная колония", - однако они все больше и больше
захватывали его, ибо, хотя многое из прочитанного казалось ему
невероятным, более того - немыслимым (разве солдат может ослушаться?), -
ему казалось, будто кто-то рассказывает ему, что происходило с ним самим,
только он этого пока не знал. "Теперь, сидя у края котлована, он мельком
туда заглянул". Пабло еще ни разу не приходилось сидеть у края котлована,
а тут он почувствовал, что его потянуло вниз, на дно. Может, он уже падает
в кровавую воду, которая стекает туда, смешиваясь с нечистотами?
устройство экзекуционного аппарата, а заодно, на примере своего
судопроизводства, и структуру исправительной колонии этого идеала


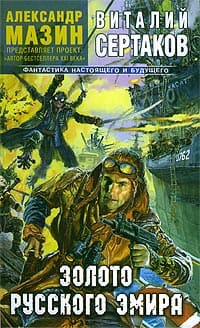
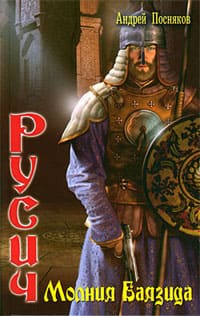

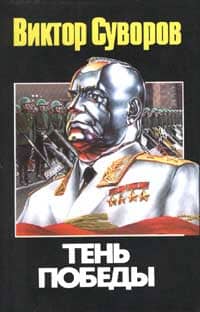
 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Круз Андрей
Круз Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Якубенко Николай
Якубенко Николай Никитин Юрий
Никитин Юрий