всех клиентов. Доволен?
мастурбации.
говорил.
догадкам, потом - сильному влажному блеску, который стрелок уже видел.
Шаткое строение задумчиво потрескивало. Вдалеке истошно залаяла собака.
Женщина поняла, что он знает, и блеск сменился безнадежностью, тупым,
безгласным желанием.
довольно худа, и сделать дряблым все ее тело не сумела ни пустыня, ни
песок, ни тяжелая однообразная работа. А когда-то она была хорошенькой,
может быть, даже красивой. Не то, чтобы это было важно. Все равно, пусть
даже в сухой черноте утробы этой женщины устроили бы гнездо
жуки-могильщики. Все было предначертано.
жизненных соков - на слезы хватило.
что это возвращало ей если не девственность, то пору девичества. Булавка,
удерживавшая бретельку, поблескивала в свете коптящих ламп.
спиной. Она гасила лампы одну за другой, прикручивая фитили и вслед за
этим дыханием задувая пламя. Потом в темноте она взяла его за руку, и рука
эта оказалась теплой. Женщина отвела его наверх. Там не было света, чтобы
укрывать от него соитие.
женщине. Комната хранила аромат хозяйки - трогательный свежий аромат
сирени. Запах пустыни забивал его, уродовал, калечил. Он был словно запах
моря. Стрелок понял, что боится пустыни, которая ждала его впереди.
прежней резкости. - Просто Норт. Он умер.
а не Господь. - Она пьяно расхохоталась в темноте. - Одно время был
тутошним золотарем. Стал пить. Траву нюхать. Потом курить ее. Ребятня
начала таскаться за ним повсюду, науськивать собак. И ходил он в старых
зеленых штанах, от которых воняло. Понимаешь?
не ел. В мыслях-то он, может, королем себя видел. Может, мальчишки были
его шутами, а их собаки - принцессами.
топоча по тротуару как слон - ходил-то он в саперных башмаках, таким сносу
нет, - а за ним хвостом ребятня да собаки. И похож он был на клубок
проволочных одежных вешалок, коли их перекрутить да завернуть все вместе.
В глазах адские огни горели, а он знай себе скалился - точь-в-точь такие
ухмылки детишки вырезают тыквам в канун Дня всех святых. Разило от Норта
грязью, гнилью и травой: она стекала из углов рта, как зеленая кровь. Я
думаю, он хотел зайти послушать, как Шеб играет на пианино. Прямо перед
дверью Норт остановился и вскинул голову. Мне было его видно, и я
подумала, что он услышал дилижанс, хоть никакого дилижанса мы не ждали.
Тут его вывернуло таким черным, там было полно крови, и все это лезло
прямо сквозь его ухмылку, точно сточные воды сквозь решетку. Воняло так,
что рехнуться можно было. Норт поднял руки и просто повалился. И все. Умер
с этой своей ухмылкой на губах, в собственной блевотине.
где-то вдалеке хлопала дверь - звук был таким, будто его слышишь во сне.
За стенами бегали мыши. В дальнем уголке сознания стрелка промелькнула
мысль, что это, вероятно, единственное заведение в городе, процветающее
настолько, чтобы прокормить мышей. Он положил руку женщине на живот. Она
сильно вздрогнула, потом расслабилась.
рассказала.
верхний рыхлый слой почвы, он гнал по улицам завесу песка и крутящиеся
ветряками кукурузные стебли. Кеннерли повесил на двери конюшни замок,
прочие же немногочисленные лавочники закрыли витрины ставнями и заперли
ставни доской. Небо было желтым, как лежалый сыр, и тучи летели по нему
столь стремительно, будто в бесплодных просторах пустыни, где побывали так
недавно, увидели нечто ужасающее.
парусиной. За его появлением следили, и старик Кеннерли, лежавший у окна с
бутылкой в одной руке и горячей, рыхлой грудью своей второй по старшинству
дочки в другой, решил: если этот человек постучится, его нет дома.
гнедому "Тпрру!". Колеса крутились, взбивая пыль, и ветер с готовностью
подхватывал ее цепкими пальцами. Возможно, человек этот был монахом или
священником: он был в припорошенной светлой пылью черной рясе, а голову
покрывал просторный, затенявший лицо капюшон, который рябил и хлопал на
ветру. Из-под облачения выглядывали тяжелые башмаки с пряжками и
квадратными носами.
лошадь. Гнедой опустил голову к земле и шумно фыркнул. Человек в черном
обошел повозку, отвязал сзади один клапан, нашел выцветшую под солнцем и
ветрами седельную сумку, забросил за плечо и вошел в трактир.
заметил. Все прочие были пьяны, как сапожники. Шеб играл на манер рэгтайма
методистские гимны, а седые бездельники, явившиеся рано, чтобы укрыться от
бури и попасть на поминки по Норту, уже успели допеться до хрипоты. Пальцы
упившегося почти до бесчувствия Шеба, который испытывал сладострастное
упоение от того, что его существование еще длится, порхали над клавишами с
горячечной быстротой перелетающего от игрока к игроку волана, сновали,
точно челнок ткацкого станка.
хоть иной раз как будто были готовы потягаться с ним. В углу Захария,
забросив юбки Эйми Фелдон ей на голову, малевал на коленках девицы знаки
зодиака. По комнате крутилось еще несколько женщин. Их щеки горели жарким
румянцем. Сочившееся в двери заведения предгрозовое зарево словно бы
передразнивало их.
мистическое V. Ослабшая челюсть отвисла в ухмылке, однако глаза ему кто-то
закрыл, положив на веки по пуле. Руки Норта с веточкой бес-травы были
сложены на груди. От него шла несусветная вонь.
него, ощущая трепет, смешанный с таившимся у нее внутри знакомым желанием.
Никаких религиозных символов на человеке не было, хотя само по себе это
ничего не значило.
виски.
всучить ему местную самогонку, как лучшее, что у нее есть, но не сделала
этого. Она наливала, а человек в черном наблюдал за ней. У него были
большие, светлые, блестящие глаза, но слишком густой полумрак не позволял
точно определить, какого они цвета. Желание Алисы усилилось. Крики и
гиканье позади не утихали. Шеб, никудышный мерин, заиграл "Рождественских
солдат", и кто-то уговорил тетушку Миль спеть. Ее искаженный до
неузнаваемости голос прорезал стоявший в комнате гомон, точно тупой топор
- мозг теленка.






 Пехов Алексей
Пехов Алексей Круз Андрей
Круз Андрей Флинт Эрик
Флинт Эрик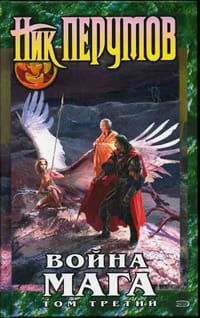 Перумов Ник
Перумов Ник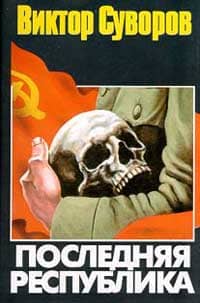 Суворов Виктор
Суворов Виктор Круз Андрей
Круз Андрей