в промокшей от дождя форме. Луи Сильвермен, другой полицейский из отдела
Джека, хороший друг уже восемь, девять лет, а может быть, дольше: у него
было живое лицо и буйная рыжая шевелюра. Он был другом и потому пришел к
задней двери, вместо того чтобы стучаться в переднюю. Не так официально,
не так дьявольски холодно и ужасно, - о Боже, просто друг у задней двери с
какими-то новостями!
произнес.
от уха, и прижала ее к груди.
прижатого к стеклу двери. Такое грустное лицо, мокрое и серое. Он тоже
любил Джека, бедный Луи.
руками к груди в попытке найти в себе силы, и молясь о том, чтобы ей
хватило их.
крыльце они прячут запасной.
дождя.
белели, как одежды ангелов, украшенные лесной зеленью и мягкими складами
лугов в долине, все еще спящих под зимним покрывалом. Воздух был чист и
так ясен, что казалось возможным разглядеть все вплоть до Китая, если бы
земля не была круглой.
покатое, покрытое снегом поле, на лес в ста ярдах к востоку. Сосны
Ламберта и желтые сосны сбились тесной толпой и отбрасывали чернильные
четкие тени на землю, как будто ночь никогда полностью не покидала их
игольчатые ветки, даже с восходом яркого солнца в безоблачный день.
находился в двух милях. Ветер все еще дремал, и ничто не двигалось на
обширной панораме, исключая двух птиц на охоте - ястребы, вероятно, -
беззвучно кружащихся высоко над головой.
Эдуардо был разбужен странным звуком. Чем дольше слушал, тем более
необычным он ему казался. Когда старик слез с кровати, чтобы отыскать его
источник, то с удивлением понял, что боится. После семи десятилетий
тревог, которые принесла ему жизнь, достигнув душевного покоя и смирившись
с неизбежностью смерти, он уже давно ничего не боялся. Поэтому и
занервничал, когда прошлой ночью ощутил бешеное сердцебиение и посасывание
в желудке, явно вызванные страхом перед странным звуком.
сложности по достижению праведного сна в полных восемь часов. Его день был
полон физическим трудом, а вечера - утешающим удовольствием от хорошей
книги. Сдержанные привычки и умеренность оставили его энергичным и в
старости, без волнующего сожаления, вполне ею довольным. Одиночество было
единственным его проклятьем с тех пор, как три года назад умерла
Маргарита. Этим объяснялись редкие случаи пробуждения в середине ночи:
грезы о потерянной жене вырывали его из сна.
набегал, как череда волн, бьющихся о берег. Кроме этого шума, полутоном
звучала почти подсознательная, дрожащая, пугающая электрическая вибрация.
Он не только слышал ее, но ощущал телом - дрожали его зубы, его кости.
Стекло окна гудело. Когда он приложил руку к стене, то мог поклясться, что
чувствует, как волны звука вздымаются, протекают через дом, как будто
медленно бьется сердце под штукатуркой.
как кто-то или что-то ритмично нажимает на преграду, пытаясь пробиться
прочь из некой тюрьмы или через барьер.
откуда и увидел свет в лесу. Нет, нужно быть честным с самим собой. Это
был не просто свет в лесу, не обычный свет.
уравновешенностью, здравым смыслом и несентиментальным восприятием
реальной жизни. Писатели, чьи книги его занимали, обладали четким, простым
стилем и не были склонны к фантазиям. С холодным ясным виденьем они
описывали мир, какой он есть, а не такой, каким он мог бы стать. Это были
Хемингуэй, Рэймонд Карвер, Форд Мэддокс Форд.
писатели - все, как один, реалисты - могли бы включить в свои романы. Свет
исходил не от чего-то в лесу, что очерчивало бы контуры сосен. Нет, он
исходил от самых сосен - красочный янтарный блеск, который, казалось,
объявился внутри коры, внутри веток. Казалось, корни деревьев всосали воду
из подземного бассейна, зараженного радием в большей степени, чем краска,
которой когда-то был покрыт циферблат его часов, что позволяло им
показывать время в темноте.
Как сияющая усыпальница святого посередине черной крепости леса.
звука. Когда первый начал слабеть, то и второй тоже. Спокойней и тусклее,
спокойней и тусклее. Мартовская ночь стала снова молчаливой и темной в
один и тот же миг, отмеченная только звуками его собственного дыхания и не
освещенная ничем более странным, чем серебряный месяц четверти луны и
жемчужный блеск укутанных снегом полей.
произойдет дальше. Наконец, когда показалось, что все точно завершилось,
залез обратно на кровать.
коротковолновый приемник передавал чикагскую станцию, которая обеспечивала
его новостями двадцать четыре часа в сутки. Необычное переживание во время
предыдущей ночи не было достаточным вмешательством в его жизнь, чтобы
заставить изменить распорядок дня. Этим утром он съел все содержимое
огромного судка грейпфрутов, четверть фунта бекона и четыре намазанные
маслом гренки. Он не потерял своего здорового аппетита с возрастом, и
длящаяся всю жизнь влюбленность в еду, которая была самым сильным чувством
в его сердце, оставила ему телосложение человека на двадцать лет моложе
его истинного возраста.
чашками черного кофе, слушая о бесконечных тревогах мира. Новости без
устали подтверждали мудрость проживания в далеких местах без соседей в
зоне видимости.
включено, не смог бы вспомнить ни слова из программы новостей, когда,
покончив с завтраком, поднялся со стула. Все время он изучал лес, глядя в
окно рядом с которым стоял стол, пытаясь решить, стоит ли спуститься на
луг и поискать свидетельства загадочного явления.
свитере и в куртке на овчинной подкладке, надев кепку с подбитыми мехом
ушами, застегивающимися на подбородке, он все еще не решил, что же нужно
делать.
приливы пульсирующего звука и свечение в деревьях, не должны повредить
ему. Что бы это ни было, он понимал, все это субъективно и происходило,
без сомнения, более в его воображении, чем в действительности.
он спустился по ступенькам крыльца и зашагал по двору.
шести до восьми дюймов в некоторых местах и до колена в других - в
зависимости от того, где ветер его сдул или наоборот, надул в холмик.
После тридцати лет жизни на ранчо, старик был настолько знаком с рельефом
земли и направлением ветра, что не задумываясь выбрал путь, который
предполагал наименьшее сопротивление.
появился легкий румянец. Он успокаивал себя, сосредоточиваясь - и
забавляясь этим - на знакомых картинах зимнего дня.
ночью светились дымным янтарным светом посреди черного замка дремучего
леса, как будто они наполнились божественным присутствием, и снова запылал
терновый куст волей Господа. Этим утром они выглядели не более необычно,
чем миллион других сосен Ламберта или желтых; желтые были даже немного
зеленее.
тридцати - тридцати пяти футов росту, лет двадцати от роду. Они выросли из
семян, которые попали на землю тогда, когда он прожил на ранчо уже
десятилетие, и ему казалось, что он знает их лучше, чем кого-либо из






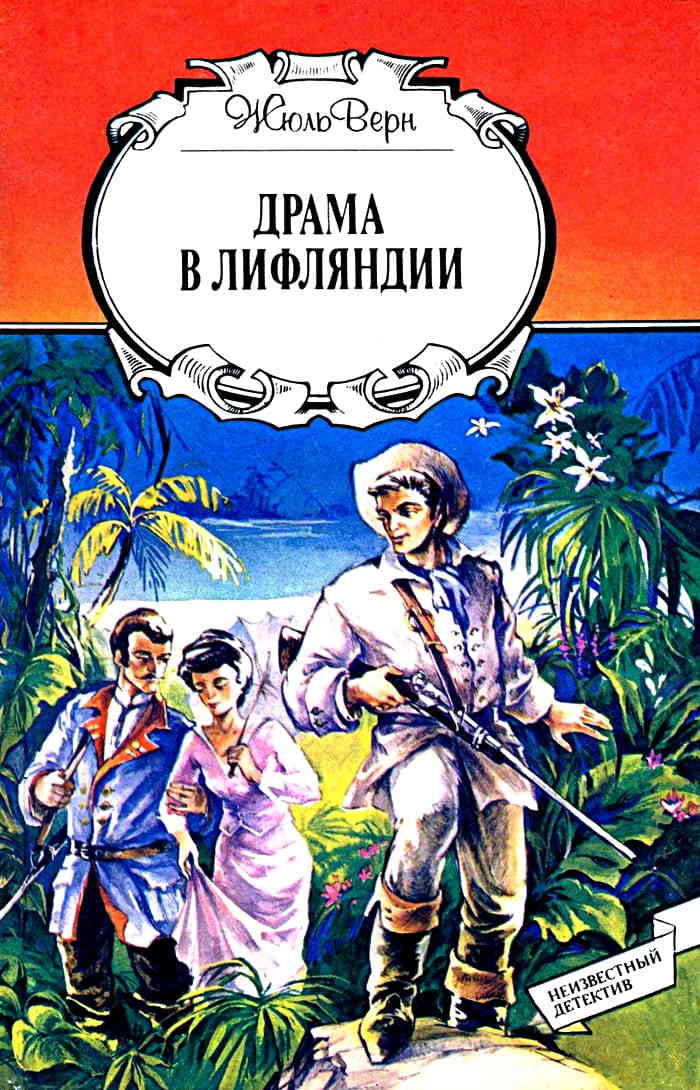 Жюль Верн
Жюль Верн Шилова Юлия
Шилова Юлия Контровский Владимир
Контровский Владимир Майер Стефани
Майер Стефани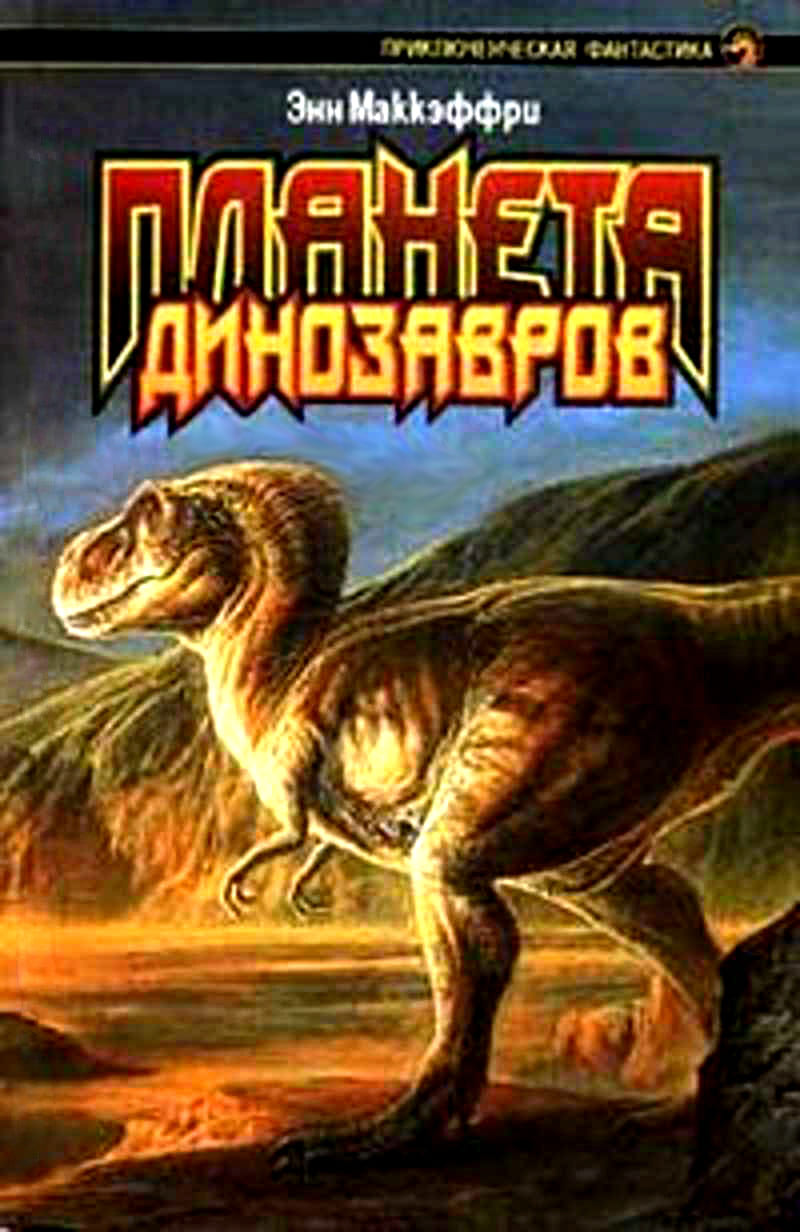 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн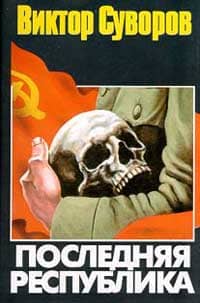 Суворов Виктор
Суворов Виктор