Дин КУНЦ
ДВЕНАДЦАТАЯ КОЙКА
и снуют повсюду, теперь, когда все ушли, а все вокруг пропитано
одиночеством, теперь, когда где-то поблизости от тебя витает Смерть и
когда мне суждено вскоре оказаться с нею один на один, - вот теперь-то я и
решил рассказать обо всей этой истории. Есть у меня и цветные мелки, и
пастельные краски, и бумага для рисования, что давали каждому из нас.
Может быть, эти записи найдут, и они станут как бы голосом моим, эхом,
долетевшим из прошлого и нашептывающим нелепые слова. Может быть.
припрятать, и места лучше, чем шкафчик-хранилище, не найти: в нем уже
полным-полно разных бумаг, так что мои затеряются среди них.
Сестрички-железки читать не умеют, зато всегда сжигают все-все бумаги,
когда ты умираешь. Хранить у себя в столе - дело пропащее. Отчасти и
поэтому место, куда мы попали, становится храпящим Адом - нет никакой
возможности связаться с внешним миром. Человеку же потребно выбираться из
скорлупы и наблюдать, как все неустанно движется, смотреть на хорошеньких
женщин, на детей и собак - да мало ли что хочет увидеть человек. Его
нельзя держать в пробирке или колбе, будто он экспонат, или засушивать,
как лист гербария, в заброшенной и забытой папке. Вот так, ломая свои
хрупкие крылышки о колбу тюрьмы, я и пишу.
коек. Мы знали, что некоторые из нас вот-вот умрут и появятся свободные
места. Приятно было думать о том, что появятся новые лица. Из нас лишь
четверо прожили тут восемь лет и больше, и мы ценили новичков, ведь с ними
на какое-то время приходило все, что делает жизнь интересной (да-да,
конечно, цветные мелки, пастельные краски, шашки... но они переставали
увлекать уже после нескольких месяцев).
и все такое. Дважды бывал в Африке, всласть поохотился там на сафари - вот
ему-то было о чем рассказать. Не один час мы слушали его истории про
"кошек" - гибких, мускулистых, с блестящими, словно полированными, когтями
и желтыми клыками, - звери таились в зарослях, в засаде, готовые рвать,
грызть и трепать неосмотрительную жертву. И еще истории про экзотических
птиц. И, конечно, рассказы про чудесные храмы, необычайные ритуалы, сказки
о туземках с гладкой и темной кожей.
еще теплится под твоей собственной иссушенной оболочкой и есть в этой
искорке что-то такое, что заставляет тебя хотеть жить. Либби
(по-настоящему его имя было Бертран Либберхад), Майк, Кью и я были
единственными ветеранами. Старичье первого призыва. Либби обошел меня,
пробыв пациентом одиннадцать лет, мой срок тянулся девять. Кью и Майк
имели стаж поменьше: у них выходило по восемь лет на брата. Все остальные
в палате оказывались временными: кто неделю, кто месяц, кто два, а потом -
с концами; их увозили на каталке и бросали в ревущий огонь Топки, где они,
сгорая, обращались в пепел. Ветеранов радовало, что многие умирали - новые
лица, знаете ли.
вслушиваюсь в тяжкие взмахи крыльев тьмы.
было имя вроде Либби, Кью или Майкла. Только этот был молодой! На вид не
старше тридцати. Когда мы вечером отправились спать, двенадцатая койка
пустовала, а проснулись - вот он, Гэйб, огромный голый парень. Только
безглазый миг ночи знал, как прикатили его и свалили на койку, будто
здоровенную тушу свежего мяса.
Бессемейных Престарелых. Надо ведь пятьдесят пять лет прожить, пока
дождешься, когда они явятся ночью, эти неуклюжие малиновоглазые андроиды
без ртов и со светящимися сенсорными проволочными решетками вместо ушей,
когда пальнут в тебя снотворным и утащат с собой. Но этот-то, что лежал на
койке, был совсем молодой!
затишье после того, как рухнет гигантское дерево на грудь земли и уляжется
- торжественное и мертвое.
Когда же, наконец, усилием воли он привел потрясенные мозги в порядок и
обрел способность мало-мальски соображать, то возопил почти как безумный:
"Мне всего двадцать семь! Какого черта! Что тут творится, а?!" Соскочил с
койки, слегка пошатываясь (ноги еще плохо держали), и заметался по палате,
отыскивая выход. Мы - те немногие, кто мог ходить, - за ним след в след,
словно овечки, завидевшие напуганного волка и ждущие пастуха.
изрыгая все известные ему проклятия, стал колотить по голубой облицовке,
хотя ему и намекнули: мол, ничего хорошего из этого не выйдет. Он колотил
и колотил, орал благим матом, ругался вовсю и опять колотил - до тех пор,
пока его децибелов достало на то, чтобы включить "уши" катившегося мимо
робота. Это безмозглое чудо на колесиках открыло дверь и поинтересовалось,
что случилось.
заорал Гэйб.
человеческом лице, у роботов нет, это сами пациенты наделяли их лицевые
поверхности каким-нибудь выражением. Тот, что прикатил, - мы звали его
Дурдок - всегда казался злобным. Наверное, потому что его левый глаз был
чуточку тусклее, чем правый.
Нижний Уровень, номер 23234545.
Дурдок, а потом:
пялившуюся металлическую морду. Кью взвизгнул, будто это уже произошло, и
прозвучавший в его вопле ужас, казалось, заставил Гэйба одуматься.
Дурдок. - Мне надо выбраться отсюда!
древнего папируса: того и гляди растрескается, разломается и рассыплется в
прах. Все мы, я полагаю, чуточку разозлились на него за подобный тон.
Программа его содержала ответы на семьсот различных вопросов: "Можно мне
"утку"; можно мне еще бумаги; что будет на обед; мне больно". Но ничто в
банке памяти не давало указания, как вести себя в сложившейся ситуации.
выбросил мощную руку. Разумеется, никакого удара не получилось. Уж на
такой-то случай, как самозащита от буйных пациентов, сестричка-железка в
своей программе кое-что имела. Моментально вытянулась двузубая штанга,
похожая на вилы, и одним рывком припечатала человека к полу - парень
застыл холоднее вчерашнего блина. А уж, поверьте мне, здешние вчерашние
блины были куда как холодны.
ночных рубах холодный компресс на лоб.
Либби. Он знал что говорил, на себе испытал - еще в первые свои годы в
палате.
Он нащупал шишку на голове.
всякому поводу и в любое время. Это напомнило мне кое о чем. Либби
частенько говорил об этом, когда я писал свои рассказики, а потом роботы
их методически сжигали. Соберет, бывало, гармошкой губы, все в рубцах,
широко-широко разинет морщинистый рот и скажет: "Ребята, старина Сэм слова
лишнего не выронит, но метит в наши Босуэллы [Джеймс Босуэлл (1740-1795) -
английский писатель, автор биографической книги "Жизнь Сэмюэла Джонсона"]
выйти. У него из наших общих биографий такое получится - куда там этому
стародавнему невежде!
заведения. Может быть, у меня еще хватит времени, чтобы от последней главы
вернуться назад и написать все главы, что ей предшествовали. Ничего
другого мне теперь не осталось - все ушли, и палата будто вымерла.
Молчание давит, я а не выношу молчания. Ладно. Как бы то ни было,
несколько недель Гэйб выглядел старше любого из нас - ходячий покойник, да
и только. Он все-все нам объяснил: и про того старика, который жил в
соседней квартире, и про то, что роботам, видимо, всучили не тот адрес. А
мы объяснили ему, что Бюро жалоб, где бы работали люди, просто не
существует, и человеческие лица здесь только у пациентов. Он колотил по
двери, получая затрещины от роботов, и в суровых испытаниях постигал
истину. С этой заползавшей ему в душу истиной, что не бывать уже ему






 Орлов Алекс
Орлов Алекс Березин Федор
Березин Федор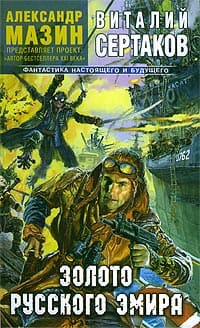 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий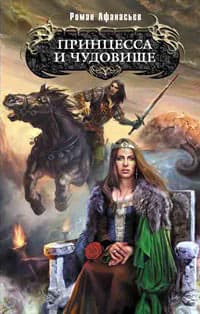 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем Орлов Алекс
Орлов Алекс