В моей комнате стало холодно. Я открыл глаза. Сквозь незанавешенное окно сияли Осенние Звезды, и их свет, казалось, бледнел с каждым мгновением. И по мере убывания света нарастал холод. Меня трясло.
Надо мною со свечой в руке стоял Сент–Одран в белой ночной сорочке. Широкий полотняный рукав открывал его руку с могучей мускулатурой. Он дышал тяжело, то и дело откидывая с лица длинные пряди волос. Был он бледен и изможден.
— Фон Бек! Во имя Господа, просыпайтесь! Вы что, напились?!
Либусса покинула меня. Но мы не можем с ней разъединиться. Никогда. Я закрыл глаза, чтобы уснуть.
— Фон Бек, убит человек! А вашу чертову невесту похитили!
Мне было так трудно оторвать голову от подушки. Она отяжелела и перекатывалась от плеча к плечу. Помогая себе руками, мне кое–как удалось принять сидячее положение. Наверное, сказывалось утомление после вчерашних приключений. И вот теперь снова кого–то убили. Мне было все равно. Убили… ну и что?
— Либуссу похитили. — Мой друг был резок.
Я не поверил ему. Либуссу невозможно похитить. Ей ничто не может угрожать. Она слишком умна и сильна духом. Она управляет своею судьбою так, как не удавалось еще никому из смертных. Она — Либусса Уганда Крессида Картагена и Мендоса–Шелперик, происходящая из самой древней на свете расы, дочь королей из династии Меровингов, чья родословная — как они заявляют–восходит к самому Иисусу Христу, который, в свою очередь, происходит по прямой линии от крови царя Соломона, Бича Духов. В ней выкристаллизовалась вся мудрость земная; чаша и меч принадлежат ей по праву. И лев, и первый адепт алхимии… То был не сон. Сент–Одран тряс меня за плечо. В бледнеющем свете звезд лицо его казалось застывшей маской ужаса. Пыль сгнившей вселенной обернулась туманом, и в нем утонула надежда…
— Она исчезла! А Мирослав убит!
— Быть не может, — резонно заметил я.
— Сударь, уверяю вас… Мирослав сейчас там, внизу, умирает на чертовом этом ковре. Его так полоснули саблей, что едва ли не перерубили надвое. И он говорит, это сделал Монсорбье!
— Выходит, негодяй все еще жив. Ну разумеется — последний из воинов Зверя. И самый упорный. — Я встал босыми ногами на холодный пол. Сент–Одран помог мне одеться. Я настоял на том, чтобы облачиться в свой лучший наряд, так еще надеялся на то, что этим утром будет моя свадьба. Белье, чулки, бриджи, жилет, туфли со шнуровкой впереди, свежий воротничок. Пока я одевался, друг мой продолжал громко взывать ко мне, тряся меня и ругаясь.
— Ради всего святого, дружище, да очнитесь же вы наконец от ваших дурацких грез. Вы что, вчера подмешали себе опия в вино?
Сюртук, парик, теперь — к зеркалу. Костюм смотрелся безукоризненно, но вот человек, в этот костюм одетый, имел вид сонный и весьма глупый, а человек у него за спиной, раздраженный медлительностью своего друга, был вне себя от ярости.
— Я должен быть в лучшем виде, Сент–Одран, сегодня ведь моя свадьба. — Меч мой смотрелся как некий церемониальный атрибут: древний клинок с алой рукоятью в синих бархатных ножнах. Из зеркала на меня глядел прилично одетый мужчина, может быть, и не по самой последней моде, но совсем старомодным я бы его назвать не решился. Сойдет. Только вот лицо у него… слишком худое и изможденное. Фон Бек это или Клостергейм? Может быть, мы слились воедино?
— Ради Бога, фон Бек. Вам что, все равно — жива она или нет?
Я потряс головой, чтобы голова моя прояснилось. Что за тупость меня обуяла7 Какие–нибудь чары, насланные Монсорбье? Не стал ли я, в довершение всего, объектом некоего колдовства? Сент–Одран тоже оделся — наспех и кое–как. Он даже бриджи не застегнул, когда направился следом за мною по лестнице вниз, где толпились перепуганные насмерть слуги.
Князя Мирослава сразил могучий удар клинка, располосовавший его от плеча до талии. Он цеплялся руками за саблю, которой был нанесен смертоносный удар, как будто клинок был наделен своей собственной жизнью. Его розовое лицо казалось странно юным, но голубые глаза вылезли из орбит от боли.
— Это был ее знакомый, — медленно и осторожно проговорил он, словно опасаясь, что усилие, которое прилагает он для того, чтобы заговорить, унесет последние мгновения жизни. Он слишком любил жизнь, чтобы расставаться с ней так небрежно. — Француз. Начищенные сапоги. Трехцветная кокарда.
— Монсорбье, — подытожил Сент–Одран. — Есть у вас, сударь, какое–нибудь снадобье, что могло бы залечить эту рану?
Голос Мирослава был ровен и тих:
— Нет. — Он улыбнулся.
Я едва совладал с порывом обнять этого добродушного медведя, но знал, что любое движение приблизит момент его смерти. И хотя князь бы обрадовался утешению от прикосновения другого человека, он удержал меня на расстоянии пронзительным взглядом.
— Это неправильно, — сказал он. — Нет никакой необходимости совершать жертвоприношение. Все это — древние черные помыслы, завладевшие ею. Она призвала Зверя. — Он помедлил, переводя дыхание. — Должно быть, это было в крови у нее. Она гениальна. С самого начала я думал, что она устоит. Кто угодно сломается, но не она. Пожалуй, я все же выпью коньяку, Сент–Одран. Вы запомните принципы работы моего двигателя?
— Думаю, да, сударь. — Шевалье осторожно поднес рюмку к полным губам князя. Тот с вожделением приник к ней.
— Милорд, — я был назойлив в своем упорстве, — что Либусса решила сделать?
— Мы, алхимики, имеем обыкновение смешивать символ с реальностью. Такова наша стезя, но иногда такая метода создает отвратительные отклонения. Она решила вернуться к древним извращенным путям, и, похоже, ничто ее не удержит. Она убеждена, что это — единственный путь. Вы должны разубедить ее, фон Бек. Вы еще можете это сделать. — Он вновь глубоко вдохнул воздух, цепляясь за жизнь исключительно силой воли.
— Она добровольно ушла с Монсорбье?
— По–моему, нет. Как мне кажется, давным–давно они заключили какую–то тайную сделку, но потом разорвали всякое соглашение. Для свадьбы необязателен ритуал, но обязательно ваше присутствие. Сможете вы отказаться от ритуала, фон Бек? Отказаться от нее?
— Нет.
— Ну так притворитесь хотя бы. — Он пошатнулся, и рука его, сжимавшая шпагу, вдруг стала вялой. — Они сейчас возвращаются в Центр. Они забрали все… чашу, тинктуру… а заклинания она знает наизусть. Но что хуже всего… они забрали мой тигель…
Князь начал заваливаться набок, но мы с Сент–Одраном подхватили его обмякшее тело, не давая ему упасть. Он поблагодарил нас бледной улыбкой и испустил дух.
— Сент–Одран, — я выпустил из рук тело князя и поднялся, — они решили вернуться в эту таверну. Мы должны их догнать.
— Если она сама пожелала пойти, — сурово и резко отозвался шевалье, — значит, она приняла решение. Я вмешиваться не стану. Видите ли, фон Бек, мне вообще очень не нравятся всякие тайны и колдовские действа. Это, сударь, темные воды, в которые я никогда не войду. Пусть Монсорбье вас заменит. Он, по–моему, вознамерился стать женихом.
— Я сумею спасти ее. Князь так сказал. — Некоторая инертность еще сковывала мои движения и искажала речь.
— Давайте–ка просто выберемся отсюда, друг мой, — предложил Сент–Одран, — и возвратимся в наш Майренбург. По мне так уж лучше столкнуться со всеми тамошними стражами порядка, чем погрязнуть здесь в черной магии. Мирослав говорил мне, что сейчас самые благоприятные условия для пересечения границы между мирами. Он объяснил мне, как совершить подобное путешествие…
— Но вы же мой шафер, сударь, — возразил я. — И для вас дело чести–сопроводить меня к свадебному алтарю!
Пожав плечами, как доброволец, вызвавшийся с достоинством подняться на эшафот, Сент–Одран без лишних слов направился вверх по лестнице и выбрался на крышу, где, точно громадный маятник, качался в воздухе воздушный корабль.
Вскоре мы снова плыли в небесах под сенью Осенних Звезд, над шпилями и крышами, темными и блестящими от дождя. Нам приходилось постоянно следить за движущим механизмом, раза четыре он едва не отказал, и Сент–Одрану пришлось на ходу его ремонтировать. С каждой заминкой возбуждение мое нарастало. Монсорбье, возможно, уже достиг Нижнего Града. Я пожалел о том, что у меня нет коня, но в распоряжении нашем был только воздушный корабль. Данос едва справлялся с порывами сильного ветра. Нас швыряло из стороны в сторону, то — к широкой Фальфнерсалии, то — ко дворцу с декоративным озерцом. Мы опустились совсем низко: лошади испуганно шарахались от нависшей над ними гондолы — не более чем в двадцати футах под нами, — а горожане, застыв в изумлении и тыча пальцами вверх, провожали нас взглядом. Потом мы снова поднялись. Как объяснил Сент–Одран, он еще не привык к новому газу.
Худо–бедно, но воздушный винт все же работал, толкая корабль против ветра, который словно сговорился с нашими врагами и никак не желал пропустить нас к Центру. Он трепал нам одежду и волосы, больно хлестал по лицам. А потом — совершенно неожиданно ветер стих, корабль, словно зацепившись за воздушный поток, набрал скорость, и нас вынесло к странному спиральному спуску улиц и раскачивающихся строений, которые трещали еще сильнее, пульсируя вокруг темной центральной ямы — сердцевины Нижнего Града. Это мне почему–то напомнило скорбящих индейцев, которых видел я одним декабрьским утром неподалеку от бухты Брандевин, причитающих над телом их мертвого вождя — телом, исклеванным стервятниками. Оно было возложено на похоронные носилки из березовых побегов. Мы начали спуск. Здания взметнулись ввысь, окружая нас. Мы зависли как раз над выгоревшими останками Сальзкахенгассе. «Настоящего друга» больше не существовало, на месте его остались только дым и обгорелые бревна. Толпа, наверное, в две тысячи человек — все в бледных одеждах и высоких заостренных капюшонах, как на auto–de–fe, — расположилась широким кругом лицами к центру. Их молчание было молчанием существ, отринувших человечность ради неведомой власти.
Они воздвигли черный крест, футов двенадцать в высоту и пять в ширину. На кресте была распята женщина, которая должна была стать мне женой. Ее руки, ноги, прибитые гвоздями к черному дереву, кровоточили лохмотья одежд, едва прикрывающих наготу все еще гордого сильного тела, обезображенного темными кровоподтеками и порезами, из которых сочилась кровь. Палачи водрузили ей на голову венец из розового шиповника, чьи шипы вонзались в искаженный мукою лоб.
А у подножия креста, точно какой–нибудь центурион, воодушевленный бездушной толпой, возложив руку на рукоять сабли, стоял Монсорбье. Другой руке, затянутой в латную рукавицу, держал он перевернутый шлем, в который–капля за каплей — стекала кровь Либуссы.
Насколько я понял, я стал свидетелем ритуала, которого так страстно стремился не допустить князь Мирослав. В нем действительно присутствовала трагическая, изуверская извращенность.
ГЛАВА 19
В которой пытаюсь я противостоять невероятному и принимаю невозможное. Задача алхимии. Свадьба всех элементов. Танец древних звезд. Кое–что относительно свойств некоторых волшебных предметов. Изъян в магической формуле.
Они воздвигли черный крест посреди пепелища и распяли на нем мою невесту. Она как–то говорила мне о Христе и о необходимости повторить его путь, но мне никогда даже в голову не приходило, что именно вознамерилась она совершить. Либусса умирала — в этом я был убежден. Небо над головою подернулось пылью, свет древних звезд побледнел, мерцание их угасало. Бледные лучи упали на тело несчастной. А потом Либусса подняла глаза к небу, и взгляды наши встретились. Меня ужаснула ее радостная улыбка.
— Гермес для моей Афродиты! — выкрикнула она. — Идет мой муж!
Теперь и Монсорбье увидел, как мы спускаемся, и хотя он не мог сдвинуться с места, чтобы не проронить ни капли крови моей Либуссы, которую собирал в железный сосуд, появление наше сильно взволновало его. Его разжигала, как я понимаю, доведенная до абсурда ревность. Я прокричал ему:
— Ба! А вот и петушок, хлопает крылышками, прям хоть сейчас на убой. Улетай, маленький забияка. Ты никому здесь не нужен. Твои республиканские курочки истомились у себя в курятнике, тоскуют, бедняжки, без своего петушка!
Хотя Либусса должна была испытывать невыносимую боль, голос ее не утратил былой властности:
— Остерегайтесь, Монсорбье. Вы призваны исполнить определенную задачу. Делайте свое дело и не отвлекайтесь!
Француз сердито надулся. Кровь Либуссы стекала — капля за каплей — в перевернутый шлем. Из бормочущей толпы выступила златовласая дева, та самая, что принесла в жертву ягненка, и запела на латыни, смешанной с греческим и, насколько я понял, с древнееврейским. Толпа подхватила ее мрачный гимн, и суровый хор заглушил ответ Монсорбье, если, конечно, он пожелал ответить.
Сент–Одран побледнел. Его трясло от ужаса и омерзения.
— Нам здесь нечего делать, фон Бек. Либусса с радостью принимает свое богохульное мученичество! Если мы здесь задержимся, нам тоже придется участвовать в этом, и тогда мы уж точно погибнем.
Но теперь я был спокоен и даже умиротворен. • — Как вы не понимаете, милый друг, что это не только ее судьба, но и моя тоже?
— Этого я и боялся, — серьезно проговорил шевалье. — У вас, верно, помутился рассудок. Прошу вас, фон Бек, прислушайтесь к голосу здравого смысла.
— Я, Сент–Одран, изменился, окончательно, безвозвратно, и должен исполнить веление судьбы. — Я улыбнулся ему. Он попятился от меня, словно от прокаженного. Я протянул к нему руку, но не достал до него.
— Вы стали созданием Сатаны, фон Бек!
— Похоже, я был им всегда. — Спокойствие не покидало меня. — Но что в том дурного…
— Сударь, еще недавно в вас жила человеческая душа! Доброе сердце… А теперь вы одержимы. Я подожду вас до вечера. Но не дольше!
Перебросив веревочную лестницу через борт, я покачал головой, преисполненный жалости к неведению моего друга.
— Я должен идти, друг мой. Скоро начнется моя свадьба. Я весьма разочарован, что вы не желаете сдержать данное мне слово.
Он сделал два шага в моем направлении, как будто собирался меня удержать, но я перемахнул через борт и начал спускаться к выжженному пепелищу и сборищу забывчивых свидетелей, чьи взгляды были прикованы к черному распятию — манифестации нового мессии, того, кого пророки называют «Антихристом». Отвергая Всевышнего, мессия этот заявлял свое право на Землю именем человечества! И как соучастник этого преступления я подчинюсь только той, чья мудрость преобразовала кровь и просветила душу. Вцепившись в лестницу, я глянул вниз, на свидетелей страданий Либуссы. Ветер бился в шелковый купол шара оглушительным пульсом, темные силуэты окрестных зданий колыхались, точно колосья пшеницы, в безбрежных просторах неба взвихренная пыль принимала странные формы, а за мутной завесой ее мерцали Осенние Звезды.
До земли оставалось лишь несколько футов. Я спрыгнул в горячий пепел «Настоящего друга». Угольки взвились у меня под ногами, глаза защипало от дыма. Не обращая на это внимания, я пробрался сквозь раскаленные обломки к жуткому сборищу свидетелей таинства. Большинство из толпы были выше меня ростом, и за их спинами я не видел креста. Я стал протискиваться через толпу жрецов, хладные, точно трупы, они не сопротивлялись моему продвижению, и вот наконец я остановился слева от златовласой жрицы. Монсорбье повернулся ко мне, поднял чашу и закричал. Гимн постепенно замер, и толпа вновь застыла в безмолвном ожидании.
Моя любимая висела распятая на кресте… Голова ее безвольно склонилась к левому плечу. Тело ее было мертвенно–белым, словно в нем не осталось ни капли крови. Мне показалось, она не дышит.
Теперь, описывая события того дня, я стараюсь припомнить каждую деталь. Воспоминания мои ярки и живы в большинстве своем, но есть и туманные смутные моменты: один мысленный образ накладывается на другой, и все они сливаются, мешая воссоздать истинную картину. Что–то, без сомнения, было иллюзией, наваждением, что–то — нет.
Но участвовать в этом жутком священнодействии мне было легко, ибо, как я ощущал тогда, я только следовал своим желаниям. И не было в мире молитвы более ревностной, чем моя молитва, обращенная к ней — ибо к кому же еще обращать мне свою мольбу? Пусть свершится ритуал и Либусса восстанет из мертвых. Теперь я понял, чего так боялся князь Мирослав, ибо, как и большинство представителей его поколения, он почитал Господа нашего и безоговорочно верил в то, что богохульство будет неизбежно наказано.
Монсорбье возвысил голос, точно епископ у алтаря:
— Вот он, Грааль! Вот кровь Антихриста, смешанная с божественною тинктурой. Вот сера и ртуть, соль и киноварь; вот злато, и серебро, и субстрат рубина. Вот камень, ставший текучим, как жидкость. — Он поднял над головою потертый шлем, словно венец Зевса. — Так говорил Мардук: Я сделаю кровь свою твердой. Я обращу ее в кость. Из плоти своей я сотворю Человека. Так говорил Мардук!
— Так говорил Мардук! — хором подхватила толпа, как и тогда, в каменном храме при принесении в жертву агнца.
— Благословен будь Святейший! Когда создал Он первое существо нашей расы, назвал Он его Андрогином, — произнесла нараспев златокудрая жрица. — Так говорил Святейший!
— Так говорил Святейший!
— Узрите! — выкрикнула она. — Ибо истина была явлена вам! Семя посеяно.
— Семя посеяно.



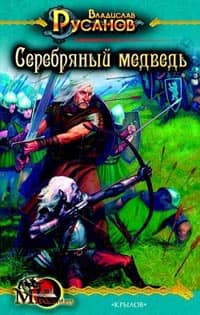


 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий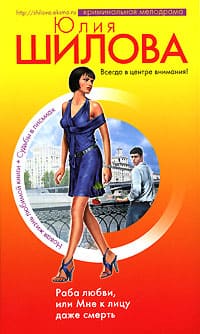 Шилова Юлия
Шилова Юлия Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Березин Федор
Березин Федор Шилова Юлия
Шилова Юлия Браун Дэн
Браун Дэн