нас несколько беспокоило. Но наконец наступил перелом: Мильва
отреагировала как дриада либо эльфка - бурно, импульсивно и не совсем
понятно. Однажды утром она на наших глазах вытащила нож и, не произнеся
ни слова, отхватила косу у самой шеи. "Не положено, я не девушка, -
сказала она, видя, как. у нас отвалились челюсти. - Но и не вдова, -
добавила она. - И на том конец трауру". С этого момента она постоянно
была уже такой, как и раньше, - ехидной, кусачей, надутой и скорой на
непарламентские выражения. Из этого мы сделали вывод, что кризис удачно
миновал.
упускавший случая заметить, что он не нильфгаардец. Зовут его, как он
утверждал, Кагыр МаурДыффин аэп Кеаллах...
***
наставив на нильфгаардца свинцовый стерженек. - Со многим из того, что я
не люблю и, более того - не переношу, мне пришлось смириться в этой
уважаемой компании. Но не со всем! Я не переношу, когда мне заглядывают
через плечо в то время, как я пишу! И смиряться с этим не намерен!
свое седло, кожух и попону и перетащил все ближе к дремлющей Мильве.
Лютик. Я заглянул случайно, из обычного любопытства. Думал, ты чертишь
карту или производишь какие-то расчеты.
- И не картограф! И даже если б был таковым, это не оправдывает того,
что ты запускаешь журавля в мои записки!
новом месте. - Со многим я смирился в этой уважаемой компании и ко
многому привык. Но извиняться по-прежнему считаю для себя возможным
только один раз.
и, кажется, для себя тоже, приняв сторону юного нильфгаардца. - Ты стал
чертовски раздражителен, Лютик. Невозможно не заметить, что это как-то
связано с бумагой, которую ты с некоторых пор принялся пачкать на
биваках огрызком свинчатки.
березовые ветки. - Последнее время наш менестрель стал раздражительным,
да к тому же скрытным, таинственным и жаждущим уединения. О нет, в
отправлении естественных потребностей присутствие свидетелей ему отнюдь
не мешает, чему, впрочем, в нашей ситуации удивляться не приходится.
Стыдливая скрытность и раздражительность, вызываемая посторонними
взглядами, связаны у него исключительно с процессом покрывания бумаги
бисерным почерком. Неужто мы присутствуем при рождении поэмы? Рапсодии?
Эпоса? Романса? Канцоны, наконец?
- Я его знаю. Это не может быть рифмованная речь, ибо он не
богохульствует, не бормочет себе под нос и не подсчитывает количество
слогов на пальцах. Он пишет в тишине, и, стало быть, это - проза.
воздерживался. - Уж не роман ли? Либо эссе? Моралите? О громы небесные,
Лютик! Не мучай нас. Не злоупотребляй... Раскрой, что пишешь? - Мемуары.
- Чего-чего?
возникнет труд моей жизни. Мемуары, называемые "Пятьдесят лет поэзии".
возраста.
древнее.
пятьдесят лет, не больше и не меньше, служению Госпоже Поэзии.
тебе, Лютик, нет и сорока. Искусство писать тебе вбили розгами в задницу
в храмовой инфиме <Инфима (от лат. infirnitas) - начальная школа, школа
низшего уровня.> в восьмилетнем возрасте. Даже если ты писал стихи уже
там, то ты служишь своей Госпоже Поэзии не больше тридцати лет. Но я-то
прекрасно знаю, ибо ты сам не раз об этом говорил, что всерьез рифмовать
и придумывать мелодии начал в девятнадцать лет, вдохновленный любовью к
графине де Стэль. И значит, стаж твоего служения упомянутой Госпоже,
друг мой Лютик, не дотягивает даже до двадцати лет. Тогда откуда же
набралось пятьдесят в названии труда? Может быть, служение графине
засчитывается как год за два? Или это метафора? - Я, - надулся поэт, -
охватываю мыслью широкие горизонты. Описываю современность, но
заглядываю и в будущее. Произведение, которое я начинаю создавать, я
намерен издать лет через двадцать-тридцать, а тогда никто не усомнится в
правильности данного мемуарам заглавия.
предусмотрительность. Обычно завтрашний день тебя интересовал мало.
возвестил поэт. - Я мыслю о потомках. О вечности!
начинать писать уже сейчас, так сказать, "на вырост". Потомки имеют
право, увидев такое название, ожидать произведения, написанного с
реальной полувековой перспективы личностью, обладающей реальным
полувековым объемом знаний и экспериенции <Экспериенция (от лат.
experientia) - опыт, знание предмета >.
Лютик, - должен по самой природе вещей быть семидесятилетним дряхлым
дедом, с мозгом, разжиженным склерозом. Такому следует посиживать на
веранде в валенках и попердывать, а не мемуары писать, потому как люди
смеяться будут. Я такой ошибки не совершу, напишу свои воспоминания
раньше, пребывая в расцвете творческих сил. Позже, перед тем как издать
труд, я лишь введу небольшие косметические поправки.
согнул больное колено. - Особенно для нас. Потому как хоть мы,
несомненно, фигурируем в его произведении и хоть он, несомненно же, не
оставил на нас сухой нитки, через полвека это уже не будет иметь для нас
большого значения.
Лютик, небольшое замечание: "Полвека поэзии" звучит, на мой взгляд,
лучше, чем "Пятьдесят лет".
свинчаткой. - Благодарю, Регис. Наконец что-то конструктивное. У кого
еще есть какие-либо замечания?
попоны. - Ну, чего зенки вытаращил? Мол - неграмотная? Да? Но и не
дурная. Мы в походе, топаем Цири на выручку, с оружием в руках по
вражеской земле идем. Может так стрястись, что в лапы вражьи попадут эти
Лютиковы "мимо арии". Мы виршеплета знаем, не секрет, что он трепач, к
тому же сплетник знатный. Того и гляди его арии пролетят мимо. Потому
пусть глядит, какие арии карябает. Чтобы нас за евонные каракули случаем
на суку не подвесили. - Ты преувеличиваешь, Мильва, - мягко сказал
вампир. - И к тому же сильно, - отметил Лютик.
там у вас, у нордлингов, но в Империи наличие рукописей не считается
преступлением, а литературная деятельность не карается.
поигрывал, и сказал вполне дружелюбно, но не без насмешки:
наций, библиотеки подлежат сожжению. Впрочем, не будем об этом. Мне,
Мария, тоже кажется, что ты преувеличиваешь. Писанина Лютика, как
всегда, не имеет никакого значения. Для нашей безопасности тоже.
Мой отчим, когда королевские коморники делали у нас перепись людей, так
ноги взял в руки, завалился в лес и две недели там отсиживался, носу не
казал. Нет уж, где пергамент, там яма, любил он говорить, а кого ныне
чернилами записывают, того завтра колесом ломать станут. И верно
говорил, хоть и паршивец был, хужее не сыскать. Мнится мне, он в пекле
поджаривается, курвин сын!
Дело шло, как заметил Геральт, к очередной долгой ночной беседе.
минутного молчания.
стервец он был. Када мамка не видала, подбирался и лапами лез, рукоблуд
паршивый. Слов не понимал, так я однажды, не сдержавшись, граблями его
малость оходила, а кады он свалился, так еще шуранула разок-другой
ногами по ребрам, да и в промежность. Два дни он опосля лежал и кровью
плевался... А я из дому прочь в белый свет дунула, не дожидаючись, пока
он вконец оздоровеет. Потом слухи до меня дошли, что помер он, да и
матка моя вскорости за ним... Эй, Лютик? Ты это записываешь, что ли? И
не моги! Не моги, слышь, что говорю?
***
сопровождал нас вампир. Однако же самым поразительным - и в принципе
непонятным - были мотивы Кагыра, который неожиданно из первейшего врага
стал если не другом, то союзником. Парень доказал это в Битве на Мосту,





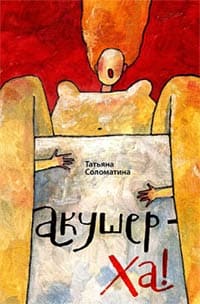
 Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав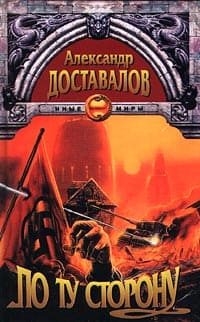 Доставалов Александр
Доставалов Александр Орлов Алекс
Орлов Алекс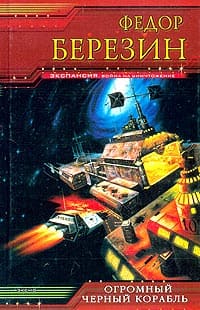 Березин Федор
Березин Федор Акунин Борис
Акунин Борис Шилова Юлия
Шилова Юлия