лишь дистанционного микростража. Если бы не законы Гегемонии и правила
Техно-Центра, Мейна Гладстон охотно ушла бы без всякого сопровождения. Но
закон есть закон.
день, и поэтому Гладстон набросила на себя длинную накидку с маскарадным
капюшоном. Брюки и башмаки не выдавали ни ее пола, ни положения, хотя
кое-где качество ткани ее накидки вызвало бы немало любопытных взглядов.
нуль-портала секретаря Сената. Мейна Гладстон шагнула в него, скорее
почувствовав через имплант, чем увидев или услышав, что микростраж
прожужжал вслед за ней и растаял в небе. Она стояла на площади Святого
Петра в городе Новый Ватикан на Пасеме. На миг она растерянно замерла,
недоумевая, почему заказала через имплант именно это место: может, из-за
того ископаемого монсеньора на обеде, в "Макушке"? Но тут же вспомнила,
что, лежа без сна, думала о паломниках - о семерых, отправившихся три года
назад навстречу своей судьбе на Гиперион. На Пасеме родился отец Ленар
Хайт. А еще раньше - другой священник, Поль Дюре.
паломников - прогулка не хуже любой другой. Обычно в бессонницу она
успевала побывать на пятнадцати-двадцати планетах, возвращаясь на Центр
Тау Кита перед самым рассветом. А сегодня ее ждут всего-навсего семь
миров.
облака. У Гладстон защекотало в носу и заслезились глаза от запаха аммиака
- резкого, аптечного запаха мира, не слишком приспособленного для человека
- но не враждебного, скорее равнодушно-холодного. Гладстон остановилась,
чтобы оглядеться.
базиликой в середине, находилась на вершине холма. Справа от Гладстон, на
юге, где колонны расступались и вниз сбегала длинная лестница, виднелся
сам городок: невысокие простые дома, сгрудившиеся среди чахлых деревьев с
белыми стволами, похожими на кости ископаемых тварей.
пересекали площадь, другие поднимались по лестнице - видимо, спешили к
мессе. Откуда-то из-под необъятного соборного купола доносился звон
колоколов, но разреженный воздух отнимал у этого звука всякую
торжественность.
любопытные взгляды утренних прохожих - людей в сутанах и мусорщиков,
разъезжавших на животных, напоминающих пятисоткилограммовых дикобразов.
Таких захолустных мирков только в Сети насчитывались десятки, а в
Протекторате и на Окраине - неизмеримо больше. Они были слишком бедны,
чтобы привлекать праздных туристов, но и слишком похожи на Землю, чтобы
остаться невостребованными в мрачные дни Хиджры. Именно такой мир
требовался кучке католиков, переселившейся сюда в надежде на возрождение
веры. Гладстон знала, что тогда их были миллионы. Теперь, должно быть,
несколько десятков тысяч. Прикрыв глаза, она вызвала голографическое досье
Поля Дюре.
молочности, эгоистичности и неспособности перемениться к лучшему они
составляли род человеческий. Да, Гладстон любила Сеть. Любила так сильно,
что готова была способствовать ее гибели.
команду на замещение, вызвала свой собственный портал и вышла в солнечный
день, пахнущий морем.
вершине горы, нависшей над Порто-Ново, у гробницы Сири, все еще отмечающей
место, где лет шестьдесят назад началось восстание. В то время Порто-Ново
был поселком с несколькими тысячами жителей, и каждый год с приходом
Фестиваля флейтисты приветствовали стада плавучих островков, плывущие под
присмотром дельфинов на пастбища в Экваториальном Архипелаге. Теперь
Порто-Ново расползся по острову от горизонта до горизонта; повсюду выросли
пятисотметровые махины городов - экобашен и жилых ульев, свысока глядевших
на гору, с которой когда-то можно было охватить взглядом чуть ли не всю
планету океанов Мауи-Обетованная.
впрочем, его вообще там никогда не было, но, подобно прочим памятным
местам планеты, этот пустой склеп нее еще рождал в душе почтение, даже
благоговение.
побуревших лагун, когда-то голубых, мимо буровых платформ и туристических
барж - туда, где начиналось море.
океана в океан, подставив южным ветрам деревья-мачты. И не видно более на
воде белоснежных следов их пастухов - дельфинов.
некоторые погибли во время ожесточенных сражений с ВКС, большинство же
покончило с собой в необъяснимом массовом самоубийстве в Южном море:
последняя тайна древней и таинственной дельфиньей расы.
принялась ее покусывать. Что случается с планетой, когда из приюта ста
тысяч человек, поддерживающих хрупкое равновесие ее хрупкой экологии, она
превращается в увеселительный парк для четырехсот с лишним миллионов?
Именно столько людей побывало на Мауи-Обетованной за первые десять
стандартолет после вступления планеты в Гегемонию.
функционировать. Планетоэкологи и специалисты по терраформированию спасли
от смерти оболочку, уберегли моря от тотального загрязнения неизбежным
мусором, сточными водами и нефтью, постарались свести к минимуму шумовое
загрязнение и тысячи других побочных явлений прогресса. Но
Мауи-Обетованная, какой она была в день, когда Консул взобрался на эту
самую гору с похоронной процессией своей бабушки, исчезла навсегда.
них туристы смеялись и что-то выкрикивали. Высоко над ними массивный
экскурсионный ТМП затмил на мгновение солнце. Во внезапном сумраке
Гладстон выплюнула травинку и села поудобнее, опершись локтями о колени.
Она задумалась о предательстве Консула. Оно стало краеугольным камнем всех
ее расчетов. Она пошла ва-банк, возложив все свои надежды на то, что
человек, выросший на Мауи-Обетованной, потомок Сири, в неизбежной битве за
Гиперион примет сторону Бродяг. Заговор не был ее одиночным предприятием:
все эти долгие годы Ли Хент служил инструментом секретаря Сената -
скальпелем, пинцетом. Именно он производил ювелирные микрохирургические
операции, дабы поместить нужного индивидуума в нужную точку, предоставить
ему возможность контакта с Бродягами, назначить на пост, позволяющий
предать обе стороны, и в итоге включить его руками устройство, которое
должно было вызвать коллапс антиэнтропийных полей на Гиперионе.
десятилетиями жизни, а также женой и ребенком, взорвался наконец местью,
как бомба, полвека пролежавшая в бездействии.
его ждет ужасная расплата: с историей, с совестью, но его измена - пустяк
по сравнению с ее собственным коварством. Что ж, она готова принять кару.
В силу своей должности она, секретарь Сената Гегемонии, являлась
символическим пастырем ста пятидесяти миллиардов людских душ, И готова
была предать их всех ради спасения рода человеческого.
терминексу. Постояла у негромко жужжащего портала, последний раз поглядела
через плечо на Мауи-Обетованную. Дувший с моря ветер нес с собой
отвратительный запах нефти и выхлопных газов, и Гладстон отвернулась.
Конкурсе был час пик, и тысячи зевак, покупателей, туристов толпились на
многоярусных галереях, пестрыми вереницами заполняли километровые
эскалаторы. Воздух, прошедший через миллионы легких, пропахший бензином,
озоном и нагретой пластмассой, душил, как пропотевшее насквозь одеяло.
Гладстон миновала ярусы дорогих магазинов и, проехав десять километров на
трансдиске, вышла у главного Святилища Шрайка.
и зеленые облака, мерцающие перед широкой лестницей. Само Святилище было
погружено в темноту; во многих узких окнах с витражами, выходящих на
Конкурс, отсутствовали стекла. Несколько месяцев назад толпа разгромила
здание, но епископу и его присным удалось бежать.
дымку на лестницу, по которой Ламия Брон несла своего умирающего клиента и
любовника, первого кибрида Китса, к священникам Шрайка. Гладстон хорошо
знала отца Ламии. Они одновременно стали членами Сената и работали там
рука об руку несколько лет. Сенатор Байрон Брон был блестящим политиком и
настоящим мужчиной. Когда-то, давным-давно, когда мать Ламии Брон еще
прозябала в своем захолустном Фрихольме, Гладстон сама подумывала выйти за
него замуж; со смертью сенатора легла в могилу часть ее собственной жизни,
ее молодости. Байрон Брон был яростным противником Техно-Центра и мечтал
освободить человечество из кабалы ИскИнов, длящейся уже пять столетий и
протянувшейся на тысячу световых лет. Именно отец Ламии Брон открыл
Гладстон глаза и внушил ей идею, которая, в свою очередь, обернулась
изощреннейшим предательством во всей истории человечества.
осторожности. Гладстон не знала, кто его спровоцировал: агенты
Техно-Центра или же лица из высших кругов Гегемонии, защищавшие свои
финансовые интересы. Но она твердо знала, что Байрон Брон никогда сам не
лишил бы себя жизни, никогда не покинул бы свою беспомощную жену и
своевольную дочку. Выступая последний раз в Сенате, Байрон Брон предложил





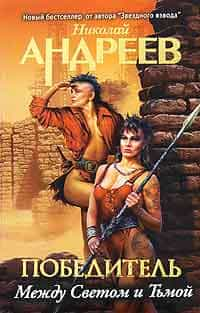
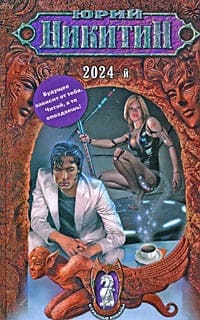 Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия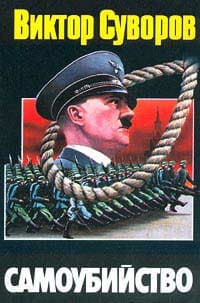 Суворов Виктор
Суворов Виктор Бажанов Олег
Бажанов Олег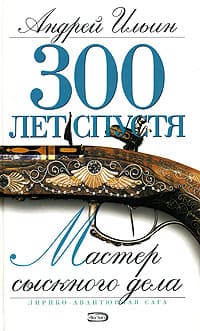 Ильин Андрей
Ильин Андрей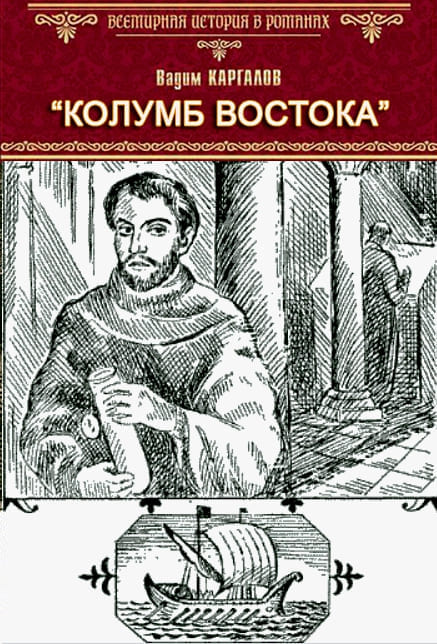 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим