сделали круг над низким, насчитывающим не более тридцати этажей зданием и
опустились на стоянку, находившуюся на одном из декоративных выступов.
принадлежу к забытой ветви христианства, католицизму. - Он смутился. -
Кому я рассказываю! Вы наверняка знаете историю нашей церкви.
принадлежим к светскому ордену, так называемому Литературно-Историческому
Братству. И нас всего восемь. Пятеро служат в Рейхсуниверситете. Двое -
историки искусства и трудятся над реставрацией Лютцендорфского аббатства.
Я ведаю литературным архивом. Наше постоянное проживание здесь обходится
Церкви дешевле, чем если бы мы ежедневно отправлялись сюда с Пасема.
Земли: причудливые светильники, стены из настоящего камня, двери на
петлях... Нас даже не окликнули домашние автоматы.
пользование порталом - это его жалование за несколько недель.
коваными железными перилами, тронутыми ржавчиной. В середине чернела
шестидесятиметровая шахта. Откуда-то из глубины темного коридора донеслось
хныканье младенца, за которым последовали крик мужчины и женский плач.
ошибаюсь. Вот и он.
превратились из позолоченных в серо-зеленые.
архивариус. - Но на Пасем, видимо, попасть можно. До появления там этих
варваров... как бы их ни называли... осталось около двухсот часов. В два
раза больше, чем у Возрождения. - Он сжал мое запястье, и я ощутил, как
дрожат его пальцы. - Господин Северн, как вы думаете, что будет с моими
архивами? Неужели они посмеют уничтожить плоды человеческой мудрости за
десять тысяч лет? - Его рука бессильно упала.
Участников беспорядков? Гладстон и правителей Гегемонии, готовых
пожертвовать мирами "первой волны"?
волю чувствам. Мы еще раз обменялись рукопожатием.
слов и немало удивился, когда они слетели с моего языка. Отыскав пропуск,
выданный мне Гладстон, я набрал трехзначный код Пасема. Портал извинился,
сообщил, что в данный момент попасть туда невозможно, затем переварил
своими туповатыми процессорами тот факт, что в него вставили специальный
пропуск, и с жужжанием включился.
отправившись прямиком на ТКЦ, совершаю серьезную ошибку.
огнями сумрак Возрождения-Вектор. К тому же здесь вовсю лил дождь -
настоящий ливень, грохочущий по крышам и вызывающий одно-единственное
желание - свернуться калачиком под парой толстых одеял.
ощутил сырое дыхание ненастной ночи. Атмосфера на Пасеме была в два раза
разреженнее стандартной, а его единственное обитаемое плато - вдвое выше
над уровнем моря, чем города Возрождения-Вектор. Я готов был тут же
повернуть назад - только бы не выходить в эту ночь, под этот беспощадный
ливень, но из темноты вынырнул морской пехотинец с винтовкой наперевес и
спросил у меня документы.
слева от собора, сэр!
совершенно бесполезную под таким ливнем, я побежал через дворик.
ни белого воротничка, открыл дверь и впустил меня в вестибюль. Другой,
сидевший за деревянным столом, сказал, что монсеньор Эдуард, несмотря на
поздний час, находится здесь и не спит.
Мой пропуск не произвел на него ни малейшего впечатления. Видимо, мой
собеседник - епископ, не меньше.
такой маленький, что я его не сразу заметил - и повел меня через
вестибюль.
дворцом. Мы очутились в неприглядном коридоре с грубо оштукатуренными
стенами и еще более грубыми деревянными дверями вдоль него. Одна из них
была открыта, и, проходя мимо, я мельком увидел каморку, очень похожую на
тюремную камеру: низкая койка, грубое одеяло, деревянная скамейка для ног,
простой комод, на нем - кувшин с водой и дешевый тазик; ни окон, ни
информационных стен или проекционных ниш, ни пульта для прямого
подключения. Это жилище, пожалуй, даже не было интерактивным.
такое изысканное и архаичное, что у меня перехватило дыхание.
Грегорианский хорал. Мы прошли через просторную трапезную, столь же
непритязательную, как и кельи, через кухню, где легко освоился бы повар
времен Китса, спустились по каменной лестнице со стертыми ступенями,
миновали тускло освещенный коридор и поднялись по другой лестнице, еще
более узкой, чем первая. Тут сопровождающий покинул меня, а я переступил
порог одного из самых красивых залов, какие когда-либо видел.
Пасем собор Святого Петра весь целиком, даже мощи, что были захоронены под
алтарем и считались принадлежащими самому Святому Петру, и в то же время
мне казалось, будто я перенесся назад во времени, в тот Рим, который
впервые увидел в середине ноября 1820 года. Город, где я жил, страдал и
умер.
величественный зал ТК-Центра: оно достигало шестисот футов в длину, и его
дальние углы терялись во мраке, ширина - там, где трансепт пересекался с
нефом, - составляла четыреста пятьдесят футов, а безупречный купол -
творение Микеланджело - поднимался над алтарем почти на четыреста футов.
Бронзовый балдахин работы Бернини, поддерживаемый витыми византийскими
колоннами, обрамлял главный алтарь, создавая в дивной бесконечности зала
соразмерный человеку тихий уголок, где ничто не мешало общению с Господом.
Кроткие огоньки лампад и свечей отвоевывали у мрака отдельные участки
базилики, отражались в гладких травертиновых плитах и вспыхивали искрами
на золотых мозаиках, выделяя детали фресок и барельефов, украшавших стены,
колонны и гигантский свод. А наверху бушевала гроза, вспыхивали молнии,
заливая желтые витражи мгновенным феерическим блеском и протягивая
световые щупальца к Престолу Святого Петра работы Бернини.
безмолвие. Не знаю, сколько времени я так простоял, не смея пошевелиться.
Но вскоре мои глаза привыкли к полумраку, контраст между вспышками молний
и золотыми огоньками свечей стал не таким резким, и тогда я заметил, что в
апсиде и длинном нефе нет скамей для молящихся. Здесь, под куполом, не
было и колонн. Вблизи алтаря, примерно в пятидесяти футах от меня, стояли
два близко сдвинутых стула. На них сидели, наклонись друг к другу, двое
мужчин, всецело поглощенные беседой. По их лицам пробегали блики от свечей
и большой лампады перед изображением Христа в темном алтаре. Оба
собеседника были немолоды. Оба принадлежали к духовенству - во мраке
белели их воротнички. Присмотревшись, я узнал в одном из них монсеньора
Эдуарда.
беседы призраком в черной накидке, который вынырнул из темноты, бормоча


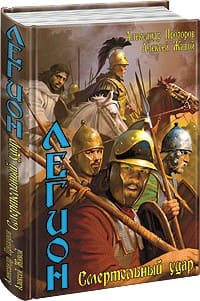
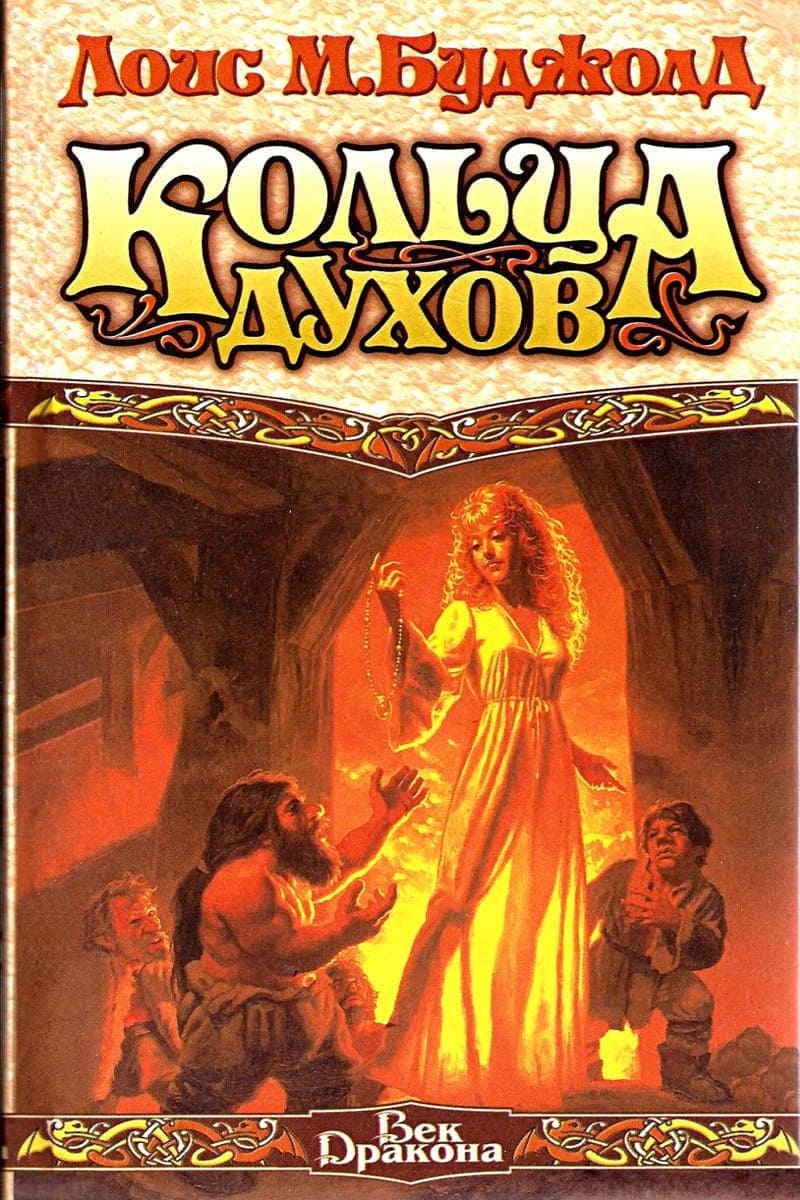

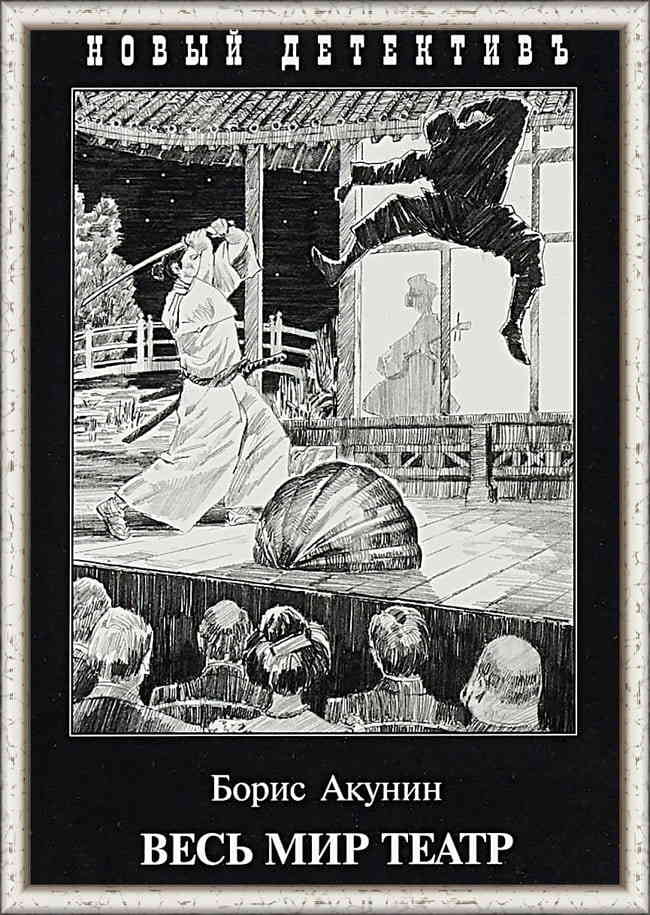
 Максимов Альберт
Максимов Альберт Лукин Евгений
Лукин Евгений Лондон Джек
Лондон Джек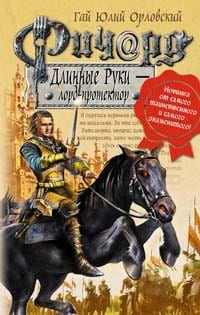 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Пехов Алексей
Пехов Алексей Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий