время был в доме.
понимаем, что ждем, потому что у нас есть тело, оно устает.
Кроме того, мы различаем работу и досуг, мы понимаем, что такое
отдых. Уарса устроен иначе. Он был здесь много часов, но не
ждал, не скучал. Нельзя же сказать, что чего-то ждет дерево или
рассвет на склоне холма. -- Тут Рэнсом зевнул. -- Я устал, --
сказал он. -- И вы устали. Ну, я-то хорошенько высплюсь в этом
гробу. Идемте, пора собираться.
перед безликим пламенем, которое не ждет, а только пребывает.
Он как-то представил меня ему и был нам переводчиком, и я на
своем языке поклялся служить ему в этом великом деле. Потом мы
сняли с окон затемнение и впустили в дом серое, пасмурное утро.
Вместе вынесли мы в сад и ящик, и крышку -- холод обжигал нам
руки. Ноги я промочил в тяжелой росе, усыпавшей траву. Эльдил
был уже в саду, на маленькой лужайке. При утреннем свете я едва
мог его разглядеть. Рэнсом показал мне, как закрыть задвижки на
крышке ящика, прошло еще несколько долгих минут, и он
отправился в дом, а вернулся обнаженным. Высокий, белокожий,
дрожащий от холода -- просто чучело какое-то -- он опустился и
свой ужасный ящик и протянул мне плотную черную повязку, чтобы
я закрыл ему лицо. Потом он улегся. Я уже не думал о Венере и
не верил, что он вернется. Если бы я посмел, я бы заставил его
одуматься; но здесь был Другой -- существо, не ведавшее
ожидания, -- и я боялся. До сих пор вижу я в страшном сне, как
закрываю ледяной крышкой гроб, где лежит живой человек, и
отступаю назад. Я остался один. Я не видел, как он улетел. Я
убежал в дом, мне стало плохо. Через несколько часов я закрыл
дом и вернулся в Оксфорд.
года. Были бомбежки, и дурные вести, и гибель многих надежд,
Земля преисполнилась тьмы и злобы -- и тогда, в одну из ночей
Уарса явился за мной. Мы с Хэмфри выехали поскорее, толкались в
переполненном поезде, встречали рассвет на холодной станции,
ожидая пересадки, и наконец ясным утром добрались до
маленького, заросшего сорняками клочка земли, который прежде
был садом Рэнсома. Черная точка появилась напротив Солнца; тот
же ледяной ящик проскользнул между нами в полной тишине. Едва
он коснулся земли, мы бросились к нему и сорвали крышку.
гробу, пошевелился, сел, стряхнул с лица и плеч ту алую массу,
которую я было принял за раны и кровь, -- и я увидел, как ветер
подхватывает и разносит лепестки цветов. Он поморгал, назвал
каждого из нас по имени, пожал нам руки и ступил на траву.
Я замер, дивясь тому новому Рэнсому, который вышел на свет из
тесного ящика. Он был силен и здоров, он словно помолодел на
десять лет. Два года назад он начинал седеть, а сейчас борода,
спускавшаяся ему на грудь, отливала золотом.
что из пятки у него идет кровь.
воду согрели? Хорошо бы принять душ, и одеться.
в дом. -- Меня бы на это не хватило.
пара окутывали его, а мы переговаривались с ним из прихожей. У
нас накопилось столько вопросов, что он не успевал отвечать.
ночь, как у нас. Пятка не болит... нет, вот сейчас заболела. Да
любую старую одежду... ага, положите на стул. Нет, спасибо. Я
не хочу ни яиц, ни бэкона. Фруктов нет? Неважно, поем хлеба или
каши. -- И наконец он крикнул: -- Выхожу!
казалось, что мы плохо выглядим. Я отправился за завтраком.
Хэмфри задержался, чтобы осмотреть ранку на ноге. Он
присоединился ко мне, когда я любовался алыми цветами.
жадностью натуралиста. -- А нежный какой! Наша фиалка против
него сорняк.
кровь идет очень давно.
день и почти всю ночь он рассказывал нам ту историю, к которой
я теперь приступаю.
путешествие в летающем гробу. Он сказал, что это невозможно. Но
странные намеки прорывались в разговорах на совсем другие темы.
однако что-то с ним происходило, что-то он чувствовал. Однажды
кто-то из нас говорил, что надо "повидать жизнь", то есть
побродить по миру, поглядеть на людей, а Б. (он антропософ)
сказал, надо видеть жизнь совсем в другом смысле. Вероятно, он
имел в виду какую-то систему медитации, при которой "сама жизнь
предстает внутреннему взору". Во всяком случае, когда мы
втянули его в длинный спор, Рэнсом признался, что и для него
это значит что-то вполне определенное. Его так прижали, что он
сознался: жизнь казалась ему тогда, в полете, чем-то "объемным
и твердым". Его спросили, какого она цвета, но он странно
взглянул на нас и пробормотал: "Вот именно, какой цвет!" -- и
все испортил, добавив: "Да это и не цвет. Мы бы не назвали это
цветом", после чего не раскрывал рта до конца вечера. В другой
раз наш друг, шотландец Макфи, приверженец скептицизма, громил
христианское учение о Воскресении тел. Я подвернулся ему под
руку, и он донимал меня вопросами вроде: "Значит, у вас будут и
зубы, и глотка, и кишки, хотя там нечего есть? И половые
органы, хотя там нельзя совокупляться? Да уж, повеселитесь!" И
тут Рэнсом взорвался: "Нет, какой осел! Вы что, не видите
разницы между сверх-чувственным и бесчувственным?" Макфи, само
собой, переключился на него; и тут выяснилось, что, по мнению
Рэнсома, нынешние желания и возможности тела исчезнут не
потому, что они атрофируются, а потому, что они будут
"поглощены". Сперва он говорил о "поглощении" пола, потом стал
искать подходящее слово для нового отношения к еде (отбросив
транс- и пара-гастрономию) и, поскольку не он один был
филологом, все стали искать такие термины. Но я уверен, что он
испытал что-то в этом роде на пути к Венере. А самым
загадочным, пожалуй, было вот что: однажды, расспрашивая его --
он редко мне это позволял, -- я неосторожно заметил: "Конечно,
все было слишком смутно, этого не передашь словами", -- и он
меня резко перебил, хотя вообще он человек на редкость
терпеливый. Он сказал: "Нет, это слова расплывчатые. Я не могу
ничего описать, потому что все было слишком четким и
определенным". Вот и все, что я могу рассказать вам о самом
полете. Одно ясно -- он изменился гораздо больше, чем после
Марса. Но может быть, тому причиной события, произошедшие уже
на самой Венере.
он пробудился от того неописуемого состояния и почувствовал,
что падает, -- значит, он уже приблизился к Венере настолько,
что она стала для него "низом". Один бок у него замерз, другому
было слишком жарко, но ни то ни другое ощущение не причиняло
боли. Вскоре он вообще об этом забыл -- снизу, сквозь
полупрозрачные стенки сочился изумительный белый свет. Он все
нарастал, начал беспокоить, несмотря на защищавшую глаза
повязку. Конечно, это светилось альбедо -- внешний слой очень
густой атмосферы, отражающий и усиливающий солнечные лучи.
Почему-то -- в отличие от Марса -- вес его вроде бы не
увеличился. Едва белое свечение стало почти невыносимым, оно
исчезло, а жар и холод сменились ровным теплом. Вероятно, он
вошел во внешние слои атмосферы -- сперва в бледные, потом в
цветные сумерки. Насколько он различал сквозь прозрачные
стенки, главным цветом был золотой или медный. К этому времени
он был совсем низко, ящик спускался стоймя, словно лифт, под
прямым углом к поверхности. Падать вот так, беспомощно, когда
не можешь пошевелить рукой, было страшно. Вдруг он попал в
зеленую тьму, пронизанную неясным шумом -- первым звуком из
нового мира. Стало холодно. Он снова лежал и, к великому своему
удивлению, двигался уже не вниз, а вверх -- сперва он принял
это за обман воображения. Видимо, уже давно, сам того не


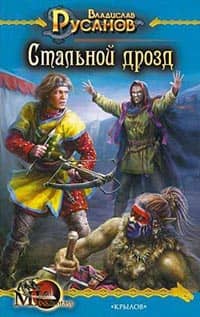



 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Березин Федор
Березин Федор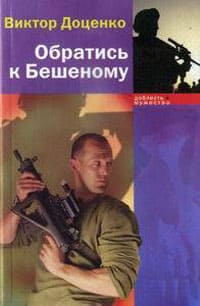 Доценко Виктор
Доценко Виктор Зыков Виталий
Зыков Виталий