вполне еще заслуживали перезахоронения, даже самые крохотные деревяшки хо
тели переехать на другое кладбище, где нет ни крестьян, ни горняков с
"Фортуны", попасть в большой город, где вечно что-то происходит и
одновременно работает девятнадцать кинотеатров, вот туда женщина и хотела
вернуться, потому что была она из эвакуированных, как поведал нам могильщик,
-- словом, не здешняя. "Она из Кельна, а теперича вот поедет в Мюльхайм, по
ту сторону Рейна", -- сказал он, сказал бы и еще больше, когда б не сирена,
целую минуту подряд сирена, и я подошел поближе, воспользовавшись сиреной,
поближе к перезахоронению, обошел сирену стороной, хотел быть свидетелем
перезахоронения, и кое- что прихватил с собой, что потом, возле цинкового
гроба, оказалось моей собственной лопатой, и я тут же начал ею дейст вовать,
не затем, чтобы подсобить, а просто так, раз уж я при лопате, и поднял на
лопату нечто упавшее рядом, причем лопата оказалась лопатой из фондов
бывшего трудового фронта, а то, что я подцепил на эту трудовую лопату,
оказалось бывшими -- или оставалось до сих пор -- средним и, я и по сей день
уверен, безымянным пальцами эвакуированной дамы, причем оба пальца от
валились не сами по себе, а были обрублены могильщиком, который, конечно же,
лишен чувств. Мне пальцы показались гибкими и красивыми, равно как и голова
женщины, уже лежавшая в цинковом гробу, сумела сохранить известную
правильность черт, благодаря послевоенной зиме сорок седьмого--сорок
восьмого, которая, как известно, выдалась весьма суровой, и это позволяло
говорить о красоте, пусть даже красоте распадающейся. К тому же голова и
пальцы женщины казались мне и ближе, и человечней, чем красота
электростанции "Фортуна Норд". Возможно, я наслаждался пафосом
индустриального ландшафта так же, как ранее наслаждался Густавом Грюндгенсом
в театре, сохраняя известное недоверие по отношению к заученным наизусть
красотам, пусть даже в этом было искусство, тогда как эвакуированная
производила слишком уж натуральное впечатление. Не спорю, ток высокого
напряжения, как и Гете, пробуждал во мне чувство мировой сопричастности,
однако пальцы мертвой женщины трогали мое сердце, пусть даже я представлял
ее себе мужчиной, что больше годилось для толкований и для того сравнения,
где я представал Йориком, а женщина -- наполовину в могиле, наполовину в
цинковом гробу -- мужчиной, Гамлетом, если кто готов считать Гамлета
мужчиной. Но я, Йорик, действие пятое, шут, "я знал его, Горацио", первая
сцена, я, кто на всех подмостках всего мира -- "Ах, бедный Йорик!" --
представляет Гамлету в распоряжение свой череп, дабы какой-то Грюндгенс или
сэр Лоуренс Оливье размышлял об этом уже на правах Гамлета: "Где теперь твои
шутки? Твои дурачества?" -- итак, я держал гамлетовский палец Грюндгенса на
своей лопате трудового фронта, я стоял на твердой почве нижнерейнского
буроугольного бассейна, среди могил горняков, крестьян и членов их семей,
глядел вниз, на шиферные крыши -- деревушки Обераусем, провозгласил
деревенское кладбище центром вселенной, электростанцию "Фортуна Норд" --
своим импозантным, полубожественным партнером, поля подо мной были полями
Дании, Эрфт был для меня Бельтом, и если здесь и была какая-то гниль, то для
меня она была в державе датской, я, Йорик, надо мной -- высокое напряжение,
заряженное, потрескивающее, гудящее, роющее, я не утверждаю: "ангелы", и,
однако, ангелы высокого напряжения пели, уходя тройными рядами к горизонту,
где Кельн и его главный вокзал рядом со сказочным готическим зверем снабжали
электроэнергией католический консультативный пункт, небесным путем через
свекольные поля, земля, однако, выдавала на-гора брикет и еще тело Гамлета,
а отнюдь не Йорика.
-- "Скажи ему, как все произошло. И кончилось. Дальнейшее -- молчание",
после чего их придавливали могильными плитами, вот как мы семейство Флиз --
тяжелой трехстворчатой диабазовой плитой. Для меня же, для Оскара Мацерата,
Бронски, Йорика, начинался новый век, и я, навряд ли это сознавая,
разглядывал торопливо, пока он не подошел к концу, неухоженные пальцы принца
Гамлета на лопасти своей лопаты -- "Он тучен и одышлив", -- действие третье,
позволил Грюндгенсу задать в первой сцене вопрос насчет быть или не быть,
затем, пренебрегая нелепым вопросом, счел более важным удержать в голове
нечто конкретное, к примеру моего сына и кремни моего сына, моих
предполагаемых отцов земных и небесных, четыре юбки моей бабушки,
сохраненную фотоснимками бессмертную красу моей бедной матушки, рубцовый
лабиринт на спине у Герберта Тручински, хорошо впитывающие кровь корзины для
писем на Польской почте, Америку -- ах, чего стоит Америка по сравнению с
девятым номером трамвая, который ходил в Брезен, -- дозволяя временами все
еще отчетливому запаху ванили, исходившему от Марии, обвевать подсунутую мне
как безумие треугольную мордочку некой Люции Реннванд, просил господина
Файнгольда, дезинфицирующего даже самую смерть, поискать в трахее у Мацерата
бесследно исчезнувший там партийный значок, и сказал Корнеффу или, уж
скорей, не Корнеффу, а мачтам, несущим на себе провода высокого напряжения,
сказал -- ибо медленно близился к решению и, однако же, испытывал
потребность, перед тем как окончательно к нему прийти, задать вопрос,
уместный на театре, подвергающий сомнению Гамлета и возвеличивающий меня как
истинного гражданина, -- сказал ему, Корнеффу, когда тот подозвал мен,
потому что следовало пройти швы на постаменте под диабазовой плитой, сказал
тихо, желая наконец-то стать гражданином и чуть-чуть подражая Грюндгенсу,
хотя тот навряд ли мог бы сыграть Йорика, -- сказал поверх своей лопаты: --
Жениться или не жениться -- вот в чем вопрос. С того поворота на кладбище,
как раз напротив "Фортуны Норд", я решительно забросил "Львиный замок"
Ведига, прервал все отношения с девушками с Междугородной телефонной
станции, чье очевидное достоинство состояло именно в их умении быстро и
качественно устанавливать связь.
ресторан, довольно прилично там поели, я поговорил с Марией, которая все
тревожилась, потому что кремневый источник Куртхена начал пересыхать, потому
что дела с искусственным медом шли день ото дня все хуже, потому что -- как
она выразилась -- я при своих слабых силах вот уже сколько месяцев тащу на
себе всю семью. Я успокоил Марию, я сказал, что Оскар рад этому, что нет для
него ничего более приятного, чем необходимость взвалить на себя большую
ответственность, попутно я отпустил ей несколько комплиментов по поводу ее
вида и, наконец, дерзнул сделать предложение.
несколько недель не было никакого ответа либо говорилось что-то уклончивое,
и наконец ответ мне дала денежная реформа.
"дорогой Оскар", добавила, что, вообще-то, я слишком хорош для этого мира,
просила понять ее и не лишать на будущее моего ничем не замутненного
дружеского расположения, желала мне всего самого наилучшего в моей
дальнейшей деятельности каменотеса и вообще, но, когда я еще раз и уже
настойчивей повторил свой вопрос, отказалась вступить со мной в брак.
шутом.
МАДОННА 49
точно так же произвести реформу и с валютой Оскара; я понял, что впредь буду
вынужден пусть и не высекать золото из своего горба, то уж по меньшей мере
зарабатывать с его помощью на жизнь.
-- как мы сегодня понимаем -- создавало все предпосылки для расцветшего
сейчас пышным цветом бидермайера, могло усугубить также бидермайерские черты
в самом Оскаре. Как супруг и обыватель я бы принял деятельное участие в
восстановлении, держал бы средних размеров каменотесное предприятие, давал
бы тридцати подмастерьям, подручным и ученикам деньги и хлеб, был бы именно
тем человеком, который делает привлекательными все вновь построенные
административные здания и дворцы страховых компаний с помощью столь
популярного ракушечника и известняка: бизнесмен, обыватель, супруг -- но
Мария дала мне от ворот поворот.
Корнефф, чье зависящее от могильных камней бытие тоже оказалось под угрозой
из-за денежной реформы, успел меня уйти, я ушел сам и теперь вот стоял на
улице, если не сидел сложа руки на кухне у Густы Кестер, постепенно
донашивал свой элегантный костюм, слегка опустился, с Марией хоть пока и не
ссорился, но ссоры опасался и потому большей частью с утра пораньше покидал
квартиру в Биль-ке, для начала навещал лебедей на Граф-Адольф- плац, потом
тех, что в Дворцовом парке, там, в аллеях парка, как раз наискось против
биржи труда и Академии художеств, которые в Дюссельдорфе располагались по
соседству, сидел -- маленький, умиротворенный и отнюдь не озлобленный.
почувствуешь желание высказаться. Старички, зависимые от перемен погоды,
преклонных лет дамы, которые медленно превращались в болтливых девчонок,
соответствующее время года, черные лебеди, дети, которые с криком гоняются
друг за другом, парочки, за которыми хочется наблюдать, пока они -- как и
следовало ожидать -- не расстанутся. Некоторые бросают на землю бумажки.
Бумажки недолго парят в воздухе, катятся по земле, пока человек в фуражке --
его оплачивает город -- не наколет их на свою палку.
Конечно же, я обратил внимание на двух тощих юнцов и девицу в очках еще до
того, как толстуха, одетая, кстати, в кожаное пальто с бывшим вермахтовским
ремнем, сама заговорила со мной. Идея заговорить исходила, вероятно, от
юнцов в черных анархистских одеждах. Какими опасными они ни казались с виду,
им явно было неловко так прямо взять и заговорить со мной, с горбуном, в
котором угадывалось скрытое величие. И они подбили на это толстуху в кожаном
пальто. Она подошла, она стояла, расставив ноги, на своих двух столбах и
заикалась, пока я не предложил ей сесть. Она села, стекла очков у нее
запотели, потому что с Рейна наплывала мгла, почти туман, она говорила,
говорила, пока я не предложил ей для начала протереть очки, а уж потом так
сформулировать свою проблему, чтобы я мог ее понять. Тогда она знаками


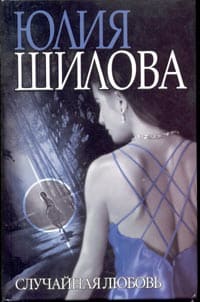



 Панов Вадим
Панов Вадим Ковальчук Вера
Ковальчук Вера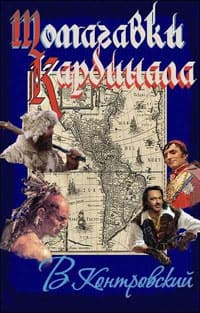 Контровский Владимир
Контровский Владимир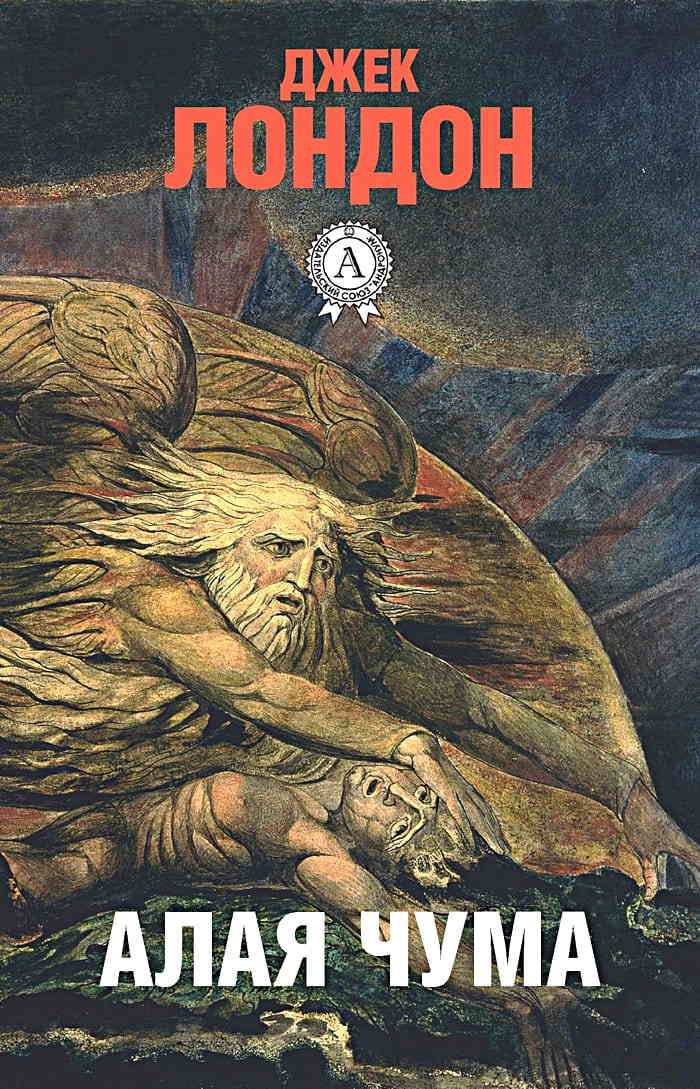 Лондон Джек
Лондон Джек Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис