тем, которые тогда искали крабов среди Роммелевой спаржи, я дивился на
явление музы. Она возникла как ангел, на ней была шляпа из формованного
папье-маше -- такое употребляют для упаковки экспортных яиц, -- и, невзирая
на сильнейшее опьянение, на печально поникшие крылышки, она все еще источала
слегка прикладное обаяние небожительницы.
училась на портниху, но теперь надумала заняться искусством, что меня ничуть
не устраивает, потому как шитьем она могла бы и заработать чего ни то, а
искусством -- нет.
попросил разрешения представить портниху Уллу как модель и как музу
студентам из Академии художеств. Ланкес пришел в такой восторг от моего
предложения, что выхватил у меня из пачки сразу три сигареты, но взамен
пригласил посетить его мастерскую, каковое приглашение он, впрочем, тотчас
ограничил требованием оплатить поездку до мастерской на такси.
заплатил за такси, и Ланкес, чья мастерская находилась на Зиттардерштрассе,
сварил на спиртовке кофе, от которого муза снова пришла в себя, а после
того, как при помощи моего правого указательного пальца ее вырвало, она
казалась почти трезвой.
удивление, услышал и ее голос, чуть дребезжаще- писклявый, но не лишенный
трогательной милоты. Когда художник Ланкес довел до ее сведения мое
предложение и скорее приказал, нежели предложил ей поработать натурщицей в
Академии художеств, она сперва отказалась, не желая быть ни музой, ни
натурщицей в академии, а желая безраздельно принадлежать одному лишь
художнику Ланкесу. Но последний сухо и без лишних слов, как обычно и должны
вести себя талантливые художники, со всего разма ху влепил ей пощечину,
повторил свой вопрос и удовлетворенно, с прежним равнодушием засмеялся,
когда она, всхлипывая -- именно так плачут ангелы, -- изъявила готовность
стать хорошо оплачиваемой моделью, а может, даже музой для художников из
академии.
росту, что она более чем стройная, обворожительная и хрупкая и заставляет
при этом вспоминать Боттичелли и Кранаха сразу. Мы с ней изображали парный
портрет в рост. Ее длинная и гладкая плоть, покрытая нежным детским пушком,
оказалась примерно такого же цвета, как мясо лангусты. Волосы у нее на
голове, пожалуй, редковаты, но длинные и соломенно-желтые. Волосы на лобке
кудрявые и рыжеватые, занимают небольшой треугольник, а волосы под мышками
Улла бреет каждую неделю.
не сумели, они то пририсовывали ей слишком длинные руки, то мне -- слишком
большую голову, короче, повторяли ошибки, присущие всем ученикам: они не
могли выстроить композицию.
достойные такого явления, как Муза и Оскар.
склоняется надо мной: красавица и чудовище.
маской: дама и единорог.
благородно серые тона, порой детали, выписанные тончайшей кистью, порой
снова в присущей Циге манере краски, размазанные гениальным шпателем, порой
таинственность вокруг Уллы и Оскара дана лишь намеком, и лишь потом именно
Раскольников находит с нашей помощью путь к сюрреализму: то лицо Оскара
превращается в медово-желтый циферблат, какой некогда был у наших напольных
ча сов, то у меня на горбу расцветают розы с механически закрученными
усиками, и Улле надлежит сорвать их, то я сижу внутри взрезанной, сверху
улыбающейся, снизу длинноногой Уллы и должен где-то между ее селезенкой и
печенью листать страницы иллюстрированной книги. Кроме того, нас охотно
наряжали в разные костюмы, из Уллы делали Коломбину, из меня печального мима
с белилами на лице. И наконец, именно Раскольникову доверили -- а
Раскольниковым его называли потому, что он все время твердил о преступлении
и наказании, -- написать большое полотно: я сидел на левом, покрытом легким
пушком колене Уллы -- голый ребенок-уродец -- и она изображала Мадонну.
Оскар же позировал в роли Иисуса.
"Мадонна 49" -- и даже как простой плакат сумела произвести впечатление, ибо
попалась на глаза моей образцовой бюргерше Марии, вызвала домашний скандал,
потом за изрядную сумму была куплена неким рейнским промышленником и,
возможно, по сей день висит где-нибудь в конференц-зале какого-нибудь
административного здания, воздействуя на членов правления.
и моих пропорций. К этому прибавилось и то, что и Улле, и мне при нашей
популярности за один час позирования вдвоем платили по две марки пятьдесят.
Улла тоже вполне освоилась с ролью натурщицы. Художник Ланкес с его большой
карающей десницей стал много лучше относиться к Улле, когда она начала
регулярно приносить домой деньги, а бил он ее, лишь если для гениальных
абстракций ему требовалась карающая десница. Тем самым для этого художника,
который из чисто оптических со ображений никогда не использовал Уллу как
натурщицу, она тоже в известном смысле стала музой, ибо лишь та оплеуха,
которой он ее наградил, придала его руке, руке художника, истинно творческую
силу.
выносливостью ангела, Улла и меня провоцировала на насилие, но я умел взять
себя в руки, и всякий раз, когда мне очень уж хотелось хорошенько взмахнуть
кнутом, я вместо того приглашал ее в кондитерскую, водил с легким оттенком
снобизма, приобретенном в общении с художниками, как редкий -- подле моих
пропорций -- цветок на длинном стебле прогуляться по оживленной и глазеющей
Кенигсаллее и покупал ей лиловые 'чулки и розовые перчатки. По- другому все
выглядело у художника Раскольникова, который, даже и .не приближаясь к Улле,
состоял с него в интимнейших отношениях. Так, однажды он заставил ее
позировать на поворотном кругу с широко ^раздвинутыми ногами, причем
рисовать не стал, а усевшись на табуреточке в нескольких шагах как раз
напротив ее причинного места, уставился туда, настойчиво бормоча что-то о
преступлении и наказании, покуда место это у музы не отсырело и не
разверзлось, да и сам Раскольников, благодаря одним только разговорам и
взглядам, достиг удовлетворительного результата, .затем вскочил со своей
табуреточки и размашистыми мазиками на мольберте взялся за "Мадонну 49".
Он считал, что мне чего-то недостает. Он говорил, что между руками у меня
возникает некий вакуум, и поочередно совал мне в руки •разные предметы,
которых при его-то сюрреалистических фантазиях приходило ему на ум более чем
достаточно. Так, он вооружил Оскара пистолетом, заставил меня -- Иисуса --
целиться в Мадонну. Я должен был •протягивать ей песочные часы, зеркало,
которое страшно ее уродовало, поскольку было выпуклым, ножницы, рыбьи
скелеты, телефонные трубки, черепа, маленькие самолетики, бронемашины,
океанские пароходы держал я обеими руками и, однако же -- Раскольников скоро
это заметил, -- не мог заполнить вакуум. Оскар со страхом ждал дня, когда
художник принесет предмет, единственно предназначенный для того, чтобы я его
держал в руках. А когда наконец он действительно принес барабан, я закричал:
снова преступление! Я, из последних сил:
держать, только не эту жестянку!
не мог помешать тому, чтоб она поцеловала меня, чтоб муза страшным поцелуем
поцеловала меня, -- вы, все, кого когда- нибудь коснулся поцелуй музы, вы
наверняка поймете, что после этого клеймящего поцелуя Оскар снова взял в
руки ту жесть, которую много лет назад отринул, зарыл в песок на кладбище
Заспе.
достаточно плохо -- был как Иисус барабанящий нарисован на голом левом
колене у Мадонны 49.
выставке. Не предупредив меня, она побывала на этой выставке, должно быть,
долго простояла перед этой картиной и наливалась гневом, ибо позднее,
призвав к ответу, отхлестала меня школьной линейкой моего же сына Курта.
Она, вот уже несколько месяцев назад нашедшая хорошо оплачиваемое место в
большом деликатесном магазине, сперва место продавщицы, а затем -- за
расторопность -- кассирши, вела теперь себя по отношению ко мне как вполне
освоившаяся на западе особа, а не как беженка с востока, занимающаяся
спекуляцией, поэтому она с великой силой убеждения могла назвать меня
свиньей, пакостником, опустившимся субъектом, кричала также, что не желает
больше видеть те поганые деньги, которые я зарабатываю своими мерзостями, и
меня она тоже не желает больше видеть.
спустя изъяла на хозяйственные нужды изрядную долю моего заработка, однако я
решил положить конец совместному проживанию с ней, с ее сестрой Густой и с
моим сыном Куртом, решил уехать как можно дальше, в Гамбург например, по
возможности ближе к морю, если удастся, но Мария, поспешно одобрившая
запланированный мной переезд, настояла все-таки, при поддержке своей сестры
Густы, чтобы я подыскал комнату где-нибудь неподалеку от нее и от Куртхена,
во всяком случае никак не дальше Дюссельдорфа.




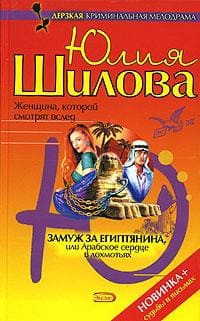

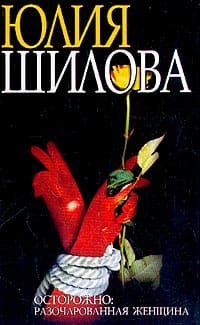 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лондон Джек
Лондон Джек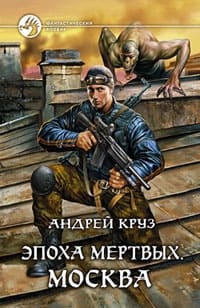 Круз Андрей
Круз Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия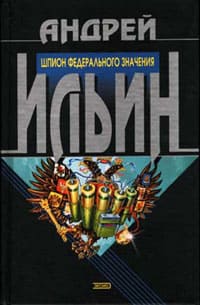 Ильин Андрей
Ильин Андрей Акунин Борис
Акунин Борис