длинную бессмысленную ночь на еще более длинном кокосовом половике? А моя
Мария, она разве не давала мне повода для жалоб? Разве ее шеф не сидел
сиднем в билькской квартире? Разве Куртхен, мой сын, не назьюал хозяина
лавки колониальных товаров сперва "дядя Штенцель", а потом и вовсе "папа
Штен- цель"? А за моей Марией, позади, не покоились разве под далеким
сыпучим песком кладбища Заспе, под глиной кладбища Брентау -- моя бедна
матушка, бестолковый Ян Бронски, кулинар Мацерат, который умел выражать свои
чувства только в супах? Их всех тоже следовало оплакать. Но Оскар был из
числа тех немногочисленных счастливцев, что способны заплакать и без лука.
Мне помогал мой барабан. Ему нужно было всего лишь несколько определенных
тактов, и Оскар заливался слезами, которые были ничуть не лучше и не хуже,
чем дорогие слезы Лукового погребка.
он стрелял в свободное время по кустам и живым изгородям, давали ему
полноценную замену. Разве не случалось -- и довольно часто, -- что Шму,
отстрелявшись, складывал двенадцать подбитых воробьев на газетке, плакал над
двенадцатью порой еще теплыми комочками перьев и, не переставая плакать,
рассыпал по рейнским лугам и прибрежному песку птичий корм? Да и само
луковое заведение предоставляло ему другую возможность дать волю своей
скорби. У него вошло в привычку раз в неделю грубо бранить уборщицу при
туалетах, осыпать ее такими, зачастую весьма старомодными, ругательствами,
как: шлюха, бабье проклятое, потаскуха, чокнутая, придурок! "Вон с моих
глаз! ~ вопил Шму. -- Гадина!" Уборщиц своих он выгонял, нанимал новых, но
через некоторое время у него возникли трудности, потому что новых уборщиц он
найти больше не мог и приходилось ему нанимать тех, которых он уже один --
или много раз -- выгонял. Уборщицы охотно возвращались в Луковый погребок,
поскольку там хорошо платили, тем более что большую часть хозяйской брани
они просто не понимали. Из-за слез гости чаще, чем в других заведениях,
посеща ли кабинет задумчивости, вдобавок человек плачущий всегда щедрее, чем
человек с сухими глазами. Особенно глубоко запускали руку в свой бумажник
мужчины, когда с красным, опухшим, растекающимся лицом они "на минуточку"
выходили. Вдобавок уборщицы продавали гостям носовые платки со знаменитым
луковым узором и с надписью: "Луковый погребок" по диагонали. Вид у платков
был забавный, они годились не только чтобы вытирать слезы, но и чтобы носить
на голове. Гости мужского пола отдавали перешить платочки, чтобы из
квадратиков получился треугольный вымпел, вывешивали их в заднем окне своей
машины и в летние месяцы увозили Луковый погребок Шму в Париж, на Лазурный
берег, в Рим, Равенну, Римини и даже в далекую Испанию.
особенно когда некоторые гости взрезали почти сразу одну за другой две
луковицы, случались прорывы, вполне способные обернуться оргией. С одной
стороны, Шму не одобрял такое падение всяческих преград и приказывал, едва
некоторые мужчины начинали расслаблять узел галстука, а некоторые дамы --
теребить пуговицы на своей блузке, дать музыку, встретить музыкой
начинающееся бесчинство, хотя, с другой стороны, именно Шму -- до какого-то
определенного пункта -- и торил дорогу к оргии, выдавая особенно податливым
гостям вторую луковицу сразу после первой.
переживал Луковый погребок, должен был стать и для Оскара если не поворотным
пунктом в его жизни, то уж по крайней мере решающим событием. Супруга Шму,
жизнелюбивая Билли, не часто приходила в погребок, а если и приходила, то с
друзьями, которые были Шму очень и очень не по душе. Так, один раз она
привела музыкального критика Вооде, а также архитектора и курильщика трубки
-- некоего Ваккерлея. Оба господина входили в число зав сегдатаев Лукового
погребка, но горе в себе носили довольно занудное: Вооде плакал по
религиозным причинам -- он не то желал переменить веру, не то уже один раз
переменил и теперь хотел переменить во второй, а куритель трубки Ваккерлей
плакал из-за профессуры, от которой отказался в двадцатые годы ради одной
экстравагантной датчанки, датчанка же взяла да и вышла за другого, за
латиноамериканца, прижила с ним шестерых детей, и это терзало Ваккерлея, и
от этого трубка у него гасла снова и снова. Именно не лишенный ехидства
Вооде подбил супругу Шму тоже разрезать луковицу. Та разрезала, залилась
слезами, и ее понесло, она начала позорить хозяина, рассказывать про такие
вещи, о которых Оскар умолчит из чистой деликатности, так что потребовалось
вмешательство самых крепких мужчин, когда Шму захотел наброситься на свою
супругу: ведь на всех столах лежали острые кухонные ножи. Разъяренного Шму
удерживали до тех пор, пока легкомысленная Билли не исчезла вместе со своими
друзьями Вооде и Ваккерлеем.
которыми он то и дело поправлял свое кашне. Он многократно исчезал за
портьерой, бранил уборщицу, вернулся наконец с полной корзиной и судорожно,
с напускной веселостью сообщил гостям, что на него, на Шму, нашел
великодушный стих и в честь этого он намерен раздавать теперь луковицы
бесплатно, после чего сразу приступил к раздаче.
была всего лишь отличной шуткой, если и не призадумался, то во всяком случае
как-то подобрался и уже держал наготове свою флейту. Мы ведь понимали, до
чего опасно предоставлять этому чувствительному и утонченному обществу
возможность почти без перерыва вторично отдаться безудержным слезам.
играть. Кухонные ножи на столах начали свою размельчительную деятельность.
Первые, самые красивые, слои цвета розового дерева были небрежно сдвинуты в
сторону. Теперь под нож пошла стекловидная сердцевина луковицы с
бледно-зелеными прожилками. Плач странным образом начался не с дам. Мужчины
в самом расцвете сил -- владелец большой мельницы, хозяин отеля со своим
чуть подкрашенным дружком, высокородный представитель фирмы, целый стол
фабрикантов мужской одежды, которые все при были в город на встречу членов
правления, и тот лишенный волос артист, которого мы в своей среде называли
Скрежетало, потому что он всегда скрежетал зубами, когда плакал, -- словом,
все они залились слезами еще до того, как их поддержали дамы. Однако дамы и
господа предались не тому облегчающему плачу, который вызывала у них первая
луковица, напротив, теперь их сотрясали судорожные рыдания: страшно
скрежетал Скрежетало, являя собой образец актера, который способен подбить
любую публику скрежетать вместе с ним, владелец мельничного предприятия то и
дело бился об стену ухоженной седой головой, хозяин отеля смешал свои
судорожные рыдания с рыданиями своего нежного друга, Шму, стоявший возле
трапа, не подбирал более концы своего кашне и не без тайного удовольствия
наблюдал уже отчасти распоясавшееся общество. А тут некая пожилая дама на
глазах у собственного зятя разорвала свою блузку. И вдруг приятель хозяина
отеля, чей несколько экзотический облик и без того привлекал к себе
внимание, обнажив торс, покрытый естественным загаром, вскочил на один
столик, затем перепрыгнул на другой, начал плясать, как, верно, пляшут на
Востоке, и тем возвестил начало оргии, которая хоть и началась весьма бурно,
но по недостатку идей или по их низкопробности не заслуживает подробного
описания.
Несколько не лишенных приятности раздеваний, мужчины напяливали дамское
белье, амазонки хватались за галстуки и подтяжки, там и сям парочки
уединялись под столом, да еще, пожалуй, стоит упомянуть Скрежетало, который
разорвал зубами бюстгальтер, пожевал его и даже, вроде бы немного проглотил.
ничего, по сути, не скрывалось, побудили Шму, разочарованного и, вероятно,
опасавшегося полиции, оставить свое место у лестницы. К нам, сидевшим под
насестом, он нагнулся, толкнул сперва Клеппа, потом меня и прошипел:
происходящее весьма забавным. Смех сотрясал его и мешал ему взяться за
флейту. Шолле, считавший Клеппа своим учителем, во всем ему подражал, и в
смехе тоже. Оставался только Оскар -- и уж на меня-то Шму мог положиться. Я
достал из-под скамейки барабан, равнодушно раскурил сигарету и принялся
барабанить.
языком, забыв про стандартную для таких заведений музыку. И совсем не джазом
было то, что играл Оскар. Я и вообще не люблю, когда люди принимают меня за
неистового ударника. Пусть я даже считаюсь ударником весьма искусным,
принимать меня за чистокровного джазмена не следует. Я люблю джазовую
музыку, как люблю, например, венский вальс. Я мог бы играть и то и другое,
но не стал. Когда Шму попросил меня пустить в ход мой барабан, я начал
играть не то, что мог, а то, что постиг сердцем. Оскару удалось вложить
палочки в руки некогда трехлетнего Оскара. Я прошел палочками по старым
дорогам туда и обратно, я распахнул мир с позиций трехлетки, сперва я взял
не способное даже к настоящей оргии послевоенное общество на поводок, --
иными словами, отвел его на Посадовскивег, в детский сад к тете Кауэр, и уже
этим добился того, что у них отвисла челюсть, что они схватились за ручки,
косолапо поставили ножки и в таком виде дожидались меня, своего крысолова. И
я покинул место под трапом, взял на себя руководство, возвестил для начала
дамам и господам "Как на чьи-то именины испекли мы каравай", но, едва
отметив несомненный успех в виде всеобщего детского веселья, я тотчас внушил
им и непреодолимый страх, пробарабанив: "Где у нас кухарка, Черная кухарка?"
Более того, я позволил ей, той, что прежде лишь изредка, а сегодня все чаще
и чаще пугает меня самого, неистовствовать в Луковом погребке, ей, огромной,
черной как вороново крыло, явственной для всех, и достиг того, чего достигал
хозяин Шму своими луковицами: дамы и господа заливались круглыми, детскими
слезами, боялись ужасно, дрожа взывали к моему состраданию, и тогда я, чтобы
их успокоить, чтобы помочь им снова надеть свои платья и белье, свое золото
и бархат, набарабанил: "Врешеньки-врешь, деточка, врешь, мой цвет очень
хорош, а нехорош голубой", и "нехорош красный", к "нехорош желтый", и
"нехорош зеленый", -- словом, прошел все цвета и все оттенки, пока снова не
оказался лицом к лицу с прилично одетым обществом, заставил детсадовцев





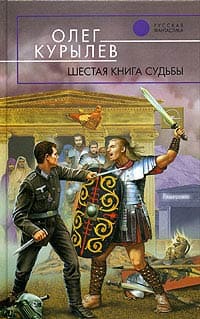
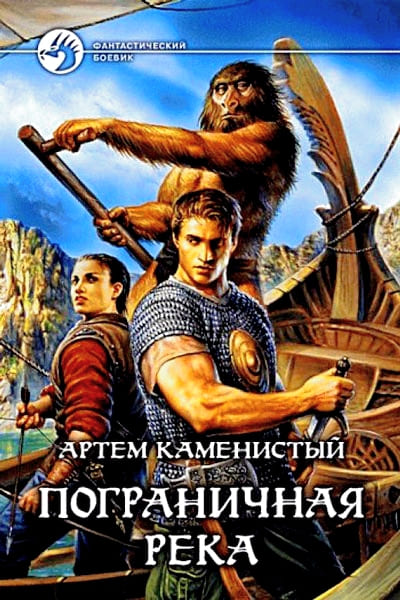 Каменистый Артем
Каменистый Артем Трубников Александр
Трубников Александр Флинт Эрик
Флинт Эрик Максимов Альберт
Максимов Альберт Бажанов Олег
Бажанов Олег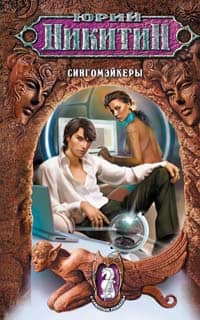 Никитин Юрий
Никитин Юрий