дворы сделались тесны для меня, что, алкая дали, отдаленности и дальних
видов, я пользовался каждой возможностью, уводившей меня -- одного ли, за
руку ли матушки -- прочь с Лабесвег, из пригорода, от козней всех поваров
нашего двора.
она брала меня с собой. И всегда брала меня с собой, когда предстояло купить
у Сигизмунда Маркуса в Цойгхаус-пассаже на Угольном рынке новый барабан. В
те времена, примерно между седьмым и десятым годом моей жизни, я добивал
барабан ровно за четырнадцать дней. С десяти до четырнадцати мне уже и
недели не требовалось, чтобы пробить жесть. Позднее мне иногда удавалось
превратить барабан в рухлядь с первого удара, иногда же, при уравновешенном
состоянии духа, -- три, а то и четыре месяца бережно и вместе с тем
энергично бара банить, не причиняя своей жестянке никакого вреда, если не
считать небольших трещин на лаке.
перекладиной для выбивания ковров, со стариком Хайландом, прямившим гвозди,
с сорванцами, изобретавшими супы, чтобы каждые две недели в сопровождении
матушки появляться у Сигизмунда Маркуса и в богатом ассортименте детских
барабанов выбирать для себя новый. Иногда матушка брала меня с собой, когда
и старый еще вполне прилично выглядел, и я наслаждался этими выходами в
пестроту Старого города, всегда смахивавшего на музей и непременно
трезвонившего каким-нибудь из своих колоколов.
Кой-какие покупки у Ляйзера, Штернфельда или Махвица, потом к Маркусу,
который взял за правило cnbnphr| матушке изысканные и лестные учтивости. Он
явно ухаживал за ней, но, сколько мне помнится, никогда не позволял себе
более пылкого изъявления своих восторгов, нежели, с горячностью схватив
золотую, как он выражался, ручку, беззвучно ее поцеловать, -- никогда, если
не считать одного-единственного коленопреклонения, о котором сейчас и пойдет
речь. Матушка, унаследовавшая от бабки Коляйчек статную подбористую фигуру и
приятное легкомыслие, соединенное с добродушием, тем охотнее принимала
восторги Сигизмунда Маркуса, что время от времени он скорее одаривал, чем
снабжал ее практически бесплатно шелковыми нитками либо превосходными
чулками, купленными им по случаю на развале. Не говоря уж о подаваемом
каждые две недели через прилавок жестяном барабане. И в каждый свой приход
матушка ровно в половине пятого просила у Сигизмунда разрешения доверить
Оскара его заботам, потому что ей надо уладить еще несколько спешных дел.
Маркус с непонятной усмешкой склонял голову и в самых цветистых выражениях
обещал матушке беречь ее Оскарчика как зеницу ока, покуда она будет
улаживать свои столь важные дела. Едва заметная, хоть и не оскорбительная
ирония, придававшая его словам особую интонацию, порой заставляла матушку
краснеть и подозревать, что Маркус знает, какие это дела. Я, впрочем, тоже
знал, какого рода дела, столь усердно улаживаемые матушкой, она называет
важными. Недаром же мне поначалу какое-то время дозволялось сопровождать ее
в дешевый пансион на Тишлер-гассе, где она исчезала на подступах к лестнице
и не возвращалась примерно сорок пять минут, заставляя меня дожидаться возле
неизменно потягивающей ликер хозяйки за стаканом без слов поданного и
отвратительного на вкус лимонада, пока матушка, почти не изменившись,
возникала передо мной, прощалась с хозяй кой, которая не поднимала глаз от
своей рюмки, и брала меня за руку, не догадываясь, что даже температура руки
ее выдает. Потом, держась за горячие руки, мы шли в кафе Вайцке, что на
Вольвебергассе. Матушка заказывала себе чашечку кофе мокко, Оскару лимонное
мороженое и ждала, пока вдруг и как бы случайно Ян Бронски не пройдет мимо,
не подсядет к нам за стол и точно так же не велит поставить чашечку мокко на
успокоительно холодный мрамор столешницы. Они разговаривали при мне без
всякого стеснения, и речи их лишь подтверждали то, что я уже давно знал:
мама и дядя Ян встречались почти каждый четверг в снятой за деньги Яна
комнате на Тишлергассе, чтобы там сорок пять минут грешить друг с другом.
Может быть, именно Ян и высказал желание не водить меня больше на
Тишлергассе, а оттуда в кафе Вайцке. Он порой бывал очень стыдлив, стыдливее
даже матушки, не видевшей ничего особенного в том, что я становлюсь
невольным свидетелем истекающего часа любви, в законности которого она
всегда, и потом тоже, была глубоко убеждена. Вот так получилось, что я почти
каждый четверг по желанию Яна с половины пятого до без малого шесть торчал у
Сигизмунда Маркуса, мог разглядывать его ассортимент барабанов, мог
испробовать, мог -- а где еще предоставлялись Оскару такие возможности? --
барабанить на нескольких барабанах зараз и глядеть при этом в печальное
собачье лицо Маркуса. Пусть даже я не знал, откуда приходят его мысли, зато
я догадывался, куда они идут, что идут они на Тишлергассе, скребутся там о
нумерованные dbeph или, подобно бедному Лазарю, прикорнули дод мраморным
столиком кафе Вайцке, дожидаясь... чего же? Крошек со стола? Но мама и Ян
Бронски не оставляли крошек. Они все подчистую съедали сами. Они были
наделены отменным аппетитом, который нельзя утолять, который сам себя кусает
за хвост.
бы за докучную нежность легкого сквознячка.
покинула лавку Маркуса в осеннем костюме ржаво-красного цвета, -- меня,
поскольку я знал, что Маркус, позабытый, позаброшенный и, наверное,
потерянный, сидит за прилавком, весело вместе с только что приобретенным
барабаном в Цойг-хаус-пассаж, темный и прохладный тоннель, по обеим сторонам
которого изысканные магазины -- ювелирные, деликатесные -- и библиотеки
жались друг к другу витринами. Впрочем, меня не влекло к заведомо дешевым,
но для меня недоступным выкладкам в вит ринах: нет, меня влекло прочь из
тоннеля, на Угольный рынок. Выйдя под этот пыльный свет, я застыл перед
фасадом Цойгхауса, чья базальтовая серость была нашпигована пушечными ядрами
различных размеров, из различных времен осады, для того чтобы эти железные
полусферы вызывали в памяти у каждого прохожего историю города. Мне эти ядра
ничего не говорили, хоть я и знал, что торчат они в стене не сами по себе,
что есть в этом городе каменщик, которого содержит и оплачивает управление
наземного строительства на пару с управлением по охране памятников, чтобы он
вмуровывал оружие минувших веков в фасады церквей, ратуш, а также в переднюю
и заднюю стену Цойгхауса.
правой стороне, отделенный от Цойгхауса узкой, полутемной уличкой. Поскольку
театр, как я и предполагал, оказался об эту пору закрыт -- вечерняя касса
открывалась лишь в семь часов, -- я нерешительно, уже подумывая об
отступлении и барабаня, начал смещаться влево, покуда Оскар не оказался
между Ярусной башней и Ланггасскими воротами. Пройти через ворота на
Ланггассе и потом свернуть налево, в Большую Вольвебергассе, я не рискнул,
потому что там сидели матушка и Ян Бронски, а если даже еще не сидели, то,
может, как раз управились на Тишлергассе и были на пути к освежающей чашке
мокко на мраморном столике. Уж и не помню, как я перешел через проезжую
часть Угольного рынка, где постоянно сновали трамваи, либо желая проехать
через ворота, либо со звонками уже выезжали из них и, скрежеща на поворотах,
сворачивали к Угольному рынку, к Дровяному рынку, в сторону Главного
вокзала. Наверное, меня взял за руку какой-нибудь взрослый, возможно
полицейский, и заботливо провел сквозь транспортные опасности. И вот я стоял
перед круто упершимися в небо кирпичами башни и, собственно, лишь по чистой
случайности, из-за одолевающей меня скуки, сунул барабанные палочки между
кирпичом и железной притолокой двери, ведущей в башню. Но, возведя взгляд
вверх по кирпичам, я уже не мог вести его вдоль фасада, потому что с
выступов и из бойниц башни то и дело обрушивались голуби, чтобы без
промедления и по- голубиному недолго отдохнуть на водосточных желобах и
эркерах, а потом снова, низринувшись с камня, увлечь мой bgnp за собой.
Возня голубей меня раздражала. Мне было слишком жалко собственного взгляда,
я отвел его и серьезно, чтобы избавиться от злобы, использовал свои палочки
как рычаг, дверь поддалась, и Оскар, еще не успев до конца открыть ее,
оказался внутри башни -- и уже на винтовой лестнице, и уже поднимался,
вынося вперед правую ногу и подтягивая к ней левую, достиг первых,
зарешеченных темниц, ввинчивался выше, оставил позади камеру пыток, где
помещались бережно сохраняемые и снабженные поучительными надписями
инструменты, поднимался дальше, шагал теперь с левой ноги и подтягивал
правую, бросил взгляд сквозь узкие зарешеченные оконца, прикинул высоту,
оценил толщину каменной стены, спугнул голубей, встретил тех же голубей за
очередным витком лестницы, снова зашагал с правой ноги, подтягивая левую, и,
когда в очередной раз сменил ногу, Оскар оказался наверху, он мог бы еще
подниматься и подниматься, хотя и правая и левая ноги у него заметно
отяжелели. Но сама лестница сдалась раньше времени. И он постиг всю
бессмысленность и все бессилие башенной архитектуры.
пережила войну. Нет у меня и охоты просить Бруно, моего санитара, принести
мне какой-нибудь справочник по восточнонемецкой кирпичной готике. Но уж
свои-то сорок пять метров до шпиля она, пожалуй, имела.
задержаться на галерее, опоясывающей крышу башни. Я сел, просунул ноги между
столбиками балюстрады, наклонился вперед и мимо столбика, который я обвил
правой рукой, поглядел вниз, на Угольный рынок, тогда как левая рука
удостоверивалась тем временем в наличии моего барабана, проделавшего со мной
весь подъем.
колоколами, древнего и якобы до сих пор хранящего дыхание средневековья,
отображенного на тысячах вполне приличных гравюр города Данцига с высоты
птичьего полета. Не займусь я и голубями, сколько бы ни твердили, будто про
голубей легко писать. Лично мне голубь вообще ничего не говорит, уж скорее
чайка. Выражение "голубь мира", может быть, справедливо лишь как парадокс.
Благую весть мира я бы скорее доверил ястребу, а то и вовсе стервятнику, чем
голубю, сварливому жильцу поднебесья. Короче говоря, на Ярусной башне были
голуби. Но голуби, в конце концов, есть и на любой мало-мальски приличной
башне, которая при поддержке положенной ей охраны памятников следит за своей




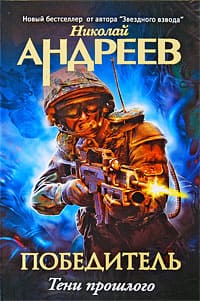

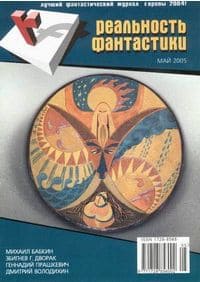 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия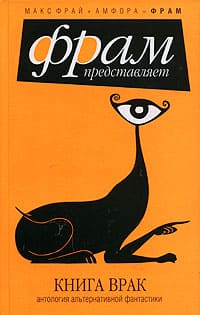 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман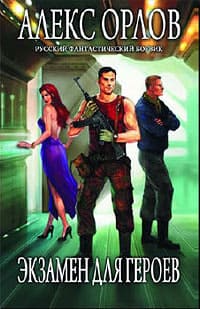 Орлов Алекс
Орлов Алекс Зыков Виталий
Зыков Виталий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий