перевоспитанию горожан, готовых ранее в каждом маленьком и неудачливом
воришке видеть подлого и опасного негодяя.
отказывался от совершения кражи, прежде чем сдаться и стать так никогда и не
пойманным вором, доктор Эрвин Шолтис, прокурор и внушающий страх обвинитель
при Верховном суде, сделался, по слухам, снисходительным, кротким и почти
человечным в своих приговорах юристом, потому что принес жертву мне,
маленькому полубогу воров, и похитил кисточку для бритья из натуральной
барсучьей щетины.
который, несмотря на укромное местоположение на аккуратно обсаженной кленами
пригородной аллее, был весьма известен и пользовался хорошей репутацией.
Перед витриной с украшениями и часами появлялась, правда, кой-какая дичь,
которую я без раздумий и немедля подстрелил бы перед всякой другой витриной
-- с дамскими чулками, велюровыми шляпами, бутылками ликера. Но украшения
оказывают воздействие на человека: он становится разборчив, неспешно следует
он за бегом бесконечных цепочек, измеряет время не по минутам, а по возрасту
жемчужин, исходит из того, что жемчужное ожерелье переживет шею, что
исхудает запястье, но отнюдь не браслет, что порой в захоронениях удавалось
обнаружить перстни, внутри которых не сохранилось пальца; короче, одного
созерцателя витрин он признает чересчур кичливым, другого чересчур
мелкотравчатым, чтобы унизывать его драгоценностями.
изысканных часов швейцарской ручной сборки, россыпь обручальных колец на
голубом бархате, в центре выкладки -- шесть или, верней, семь изысканнейших
экспонатов: завившаяся в три кольца, сработанная из разноцветного золота
змейка, чью филигранно отделанную головку украшали, придавая ей особую
ценность, топаз, два бриллианта и, вместо глаз, два сапфира. Вообще-то я не
люблю черный бархат, но змейке господина Банземера пристал этот фон, равно
как и серый бархат, который благодаря умопомрачительно простым, привлекающим
своей opnonpvhnm`k|mni формой серебряным украшениям излучал пи кантное
спокойствие. Кольцо, державшее столь изящную гемму, что по нему сразу было
видно: оно выберет лишь руки столь же изящные, само будет становиться все
изящнее и под конец достигнет той высокой степени бессмертия, которая
дарована лишь драгоценностям. Цепочки, которые нельзя носить невозбранно,
цепочки, навевающие усталость, и, наконец, на изжелта-белой бархатной
подушечке, упрощенно повторявшей формы дамской шеи, -- легчайшее колье.
Изысканное членение, причудливая оправа -- ажурная паутина. Что за паук
исторг из себя эту золотую нить, чтобы в нее угодили шесть малых и один
большой рубин? И где он сидел, этот паук, чего дожидался? Уж верно, не новых
рубинов, а скорее кого-нибудь, чей взгляд притянули бы угодившие в сеть
рубины, напоминая затвердевшие капли крови, -- другими словами, сообразуясь
с собственным настроением либо с настроением паука, плетущего золотую нить,
кому должен был я преподнести это колье?
снегу, в ночь, которая сулила еще больше снега, столько снега, сколько может
лишь пожелать себе тот, кто хотел бы все отдать во власть снега, я увидел,
как Ян Бронски правее и выше моего наблюдательного поста пересекает улицу,
проходит, не поднимая глаз, мимо ювелирного магазина, потом то ли просто
мешкает, то ли останавливается, как по приказу, поворачивает -- или что-то
поворачивает его, -- и вот уже Ян стоит перед витриной между укрытыми белой
ношей безмолвными кленами.
смиренно-покорный, в любви -- тщеславный, равно глупый и помешанный на
красоте Ян Бронски, который жил плотью моей матушки, который -- во что я до
сих пор верю, в чем я до сих пор сомневаюсь -- произвел меня на свет от
имени Мацерата, Ян стоял теперь в своем зимнем пальто, элегантном, словно из
ателье варшавского портного, стоял перед витриной, обратясь в памятник
самому себе, таким окаменелым казался он мне, таким живым символом, устремив
взгляд -- подобно Парсифалю, который вот так же стоял в снегу и видел на
снегу кровь, -- на рубины золотого колье.
мне. Я ощущал его под пальто. Всего-то и надо было расстегнуть одну
пуговицу, и он бы сам выскочил на мороз. Сунь я руки в карманы -- и палочки
оказались бы у меня в руках. Ведь и охотник Губерт не стрелял, когда на
мушке у него оказался совершенно необычный олень. И Савл сделался Павлом. И
Аттила повернул вспять, когда Папа Лев воздел палец с перстнем. Я же
выстрелил, не перевоплотился, не повернул вспять, я остался охотником
Оскаром, я желал поразить цель, я не расстегнул пуговицу, не выставил
барабан на мороз, не скрестил палочки на белой по-зимнему жести, не
превратил январскую ночь в ба рабанную, а вместо того беззвучно закричал,
закричал, как, может быть, кричит звезда или рыба в самой глубине, сперва
вторгся своим криком в структуру мороза, чтобы наконец выпал свежий снег, а
уж потом закричал в стекло, в толстое стекло, в дорогое стекло, дешевое
стекло, в прозрачное стекло, в разъединяющее стекло, в стекло между двумя
мирами, и в девственном, в мистическом, в витринном стекле между Яном
Бронски и рубиновым колье я выкричал отверстие по известному мне размеру
Яновых перчаток и предоставил стеклу упасть, подобно откидной крышке,
подобно небесным вратам, подобно вратам ада; и Ян не bgdpncmsk, Ян выпустил
на свободу свою руку в тонкой лайке и дал ей из кармана пальто подняться в
небо, и перчатка покинула ад, отъяла у неба -- или у ада -- колье, рубины
которого пришлись бы к лицу любому ангелу, даже падшему, после чего он
опустил пригоршню рубинов и золота в карман, продолжая, однако, стоять перед
дырявым стеклом, хоть это и было чревато опасностью, хоть и не истекали
больше кровью рубины, чтобы навязать единственное направление его -- или
Парсифалеву -- взгляду. О Отец, Сын и Святой Дух! С духом должно было что-то
произойти, раз уж не произошло оно с Яном, отцом. И тогда Оскар, сын,
расстегнул пальто, поспешно ухватился за барабанные палочки и воззвал на
своей жести "Отец, отец!", пока Ян Бронски не обернулся, медленно, слишком
медленно не перешел через улицу и не обнаружил в подворотне меня, Оскара.
Как прекрасно, что именно в тот миг, когда Ян все еще без выражения, но
незадолго перед оттепелью взглянул на меня, начал падать снег. Он подал мне
руку -- руку, а не перчатку, которая прикасалась к рубинам, и молча, но без
уныния повел меня домой, где матушка уже обо мне беспокоилась, а Мацерат в
своей обычной манере, с подчеркнутой строгостью, хотя едва ли всерьез,
пригрозил мне полицией. Ян не дал никаких объяснений, не стал засиживаться и
не пожелал играть в скат, хотя Мацерат для вящего соблазна уже поставил на
стол пиво. Уходя, Ян погладил Оскара, но тот так и не понял, чего он
взыскует -- молчания или дружбы.
происхождении колье, она носила его неподолгу, когда Мацерат уходил, либо
для себя, либо для Яна, а может, и для меня.
на дюжину американских сигарет "Лаки страйк" и кожаную папку.
ЧУДА НЕ БУДЕТ
часто с тоской вспоминаю о силе, которой тогда был наделен, о силе, которая,
одолевая ночь и холод, заставляла таять морозные узоры, вскрывала витринные
стекла и за руку подводила к ним похитителя.
трети моей двери с тем, чтобы Бруно, моему санитару, было сподручней
наблюдать за мной.
своего голоса. Когда в стремлении к успеху я издавал свой крик на ночной
улице, но успеха, однако ж, не имел, могло случиться, что я, ненавидящий
всякое насилие, хватался за камень, избрав себе мишенью какое- нибудь
кухонное окно на убогой окраинной улице Дюссельдорфа. С особой радостью я
продемонстрировал бы что-нибудь эдакое Вит-лару, оформителю. Когда далеко за
полночь я узнавал его, закрытого сверху шторами, снизу по красно-зеленым
носкам за стеклом магазина мужской одежды на Кенигсалле либо -- парфюмерного
неподалеку от бывшей Тонхалле, я бы, хоть он и мой ученик или мог им стать,
охотно разрезал для него стекло витрины, ибо до сих пор не знаю, как мне его
называть. Иудой или Иоанном. Витлар благородного происхождения, имя его
Готфрид. Когда после постыдно тщетных певческих усилий я привлек к себе
bmhl`mhe оформителя легкой барабанной дробью по невредимому стеклу витрины,
когда он на четверть часика вышел ко мне, поболтал со мной и посмеялся над
своими оформительскими изысканиями, мне пришлось называть его Готфридом, ибо
мой голос не сотворил того чуда, которое давало бы мне право наречь его
Иудой или Иоанном. Пение перед ювелирным магазином, сделавшее Яна Бронски
вором, а мою матушку -- обладательницей рубинового колье, на время положило
конец моим вокальным упражнениям перед витринами с соблазнительным товаром.
На матушку нашла набожность. По какой такой причине? Связь с Яном Бронски,
краденое колье, сладостные жизненные тяготы неверной жены сделали ее
благочестивой, алчущей святости. А грех можно упорядочить наилучшим образом:
по четвергам -- встретиться в городе, маленького Оскара оставить у Маркуса,
предпринять некоторые усилия, приносящие удовлетворение на Тишлергассе,
отдохнуть в кафе Вайцке за кофе и пирожными, забрать сыночка у еврея,
получить от него несколько комплиментов и в придачу почти задаром пакетик
шелковых ниток, отыскать свой номер трамвая -- номер пять, с улыбкой и
витающими где-то далеко мыслями насладиться поездкой мимо Оливских ворот, по
Гинденбургаллее, почти не заметить возле спортивного зала Майский луг, где
Мацерат проводит свои воскресные утра, порадоваться объезду вокруг спортзала
-- до чего ж безобразно может выглядеть эта коробка, когда ты совсем недавно
пережил нечто прекрасное, -- еще поворот, теперь налево, и за пыльными
деревьями Конрадова гимназия с гимназистами в красных шапочках, как красиво,
ах, если бы и Оскархена украшала такая же красная шапочка с золотым "К", ему
было бы уже двенадцать с половиной, и сидел бы он в четвертом классе, и



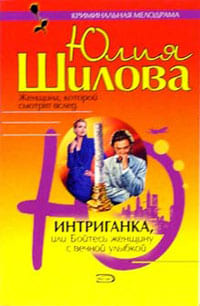


 Никитин Юрий
Никитин Юрий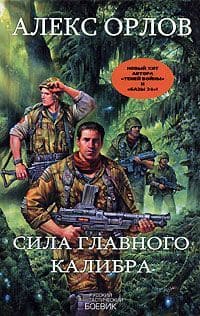 Орлов Алекс
Орлов Алекс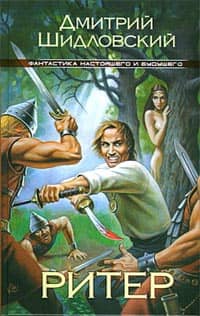 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия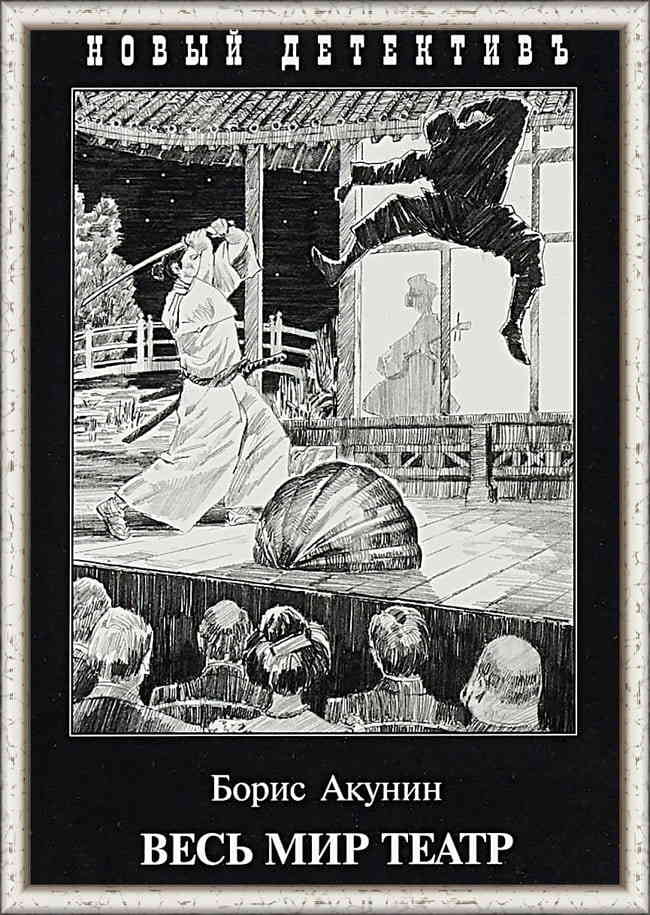 Акунин Борис
Акунин Борис