обитающим ныне под ее юбками, и тут выяснилось, что они худые, длинные и по
долгу службы носят мундиры полевой жандармерии. Они чуть не промчались мимо
бабки. Никак один из них перемахнул через костерок? Но вдруг они
спохватились, что на них форменные сапоги, а стало быть, есть чем думать,
притормозили, повернулись, затопали сапогами -- оказались при сапогах и
мундирах в дыму, кашляя, спасли мундиры из дыма, увлекая дым за собой, не
перестали кашлять, заговорили с моей бабкой и поинтересовались, не видела ли
она Коляйчека, потому что она непременно должна была его видеть, раз она
сидит здесь у оврага, а Коляйчек как раз ушел по оврагу. Бабка моя Коляйчека
не видела, потому что никакого Коляйчека не знала. Она спросила, не с
кирпичного ли он, часом, завода, потому что никого, кроме тамошних, она не
знает. Мундиры описали ей Коляйчека как человека, который не имеет к
кирпичному никакого отношения, а из себя короткий и широкий. Бабка
вспомнила, что вроде бы видела, как бежал одинтакой, и, определяя
направление побега, указала дымящейся картофелиной на остром суку в
направлении Биссау, которое, если верить картофелине, лежало, считая от
завода, между шестым и седьмым стол бами. Но был ли этот бегун Коляйчек, моя
бабка не знала, она извинилась за свою неосведомленность, сославшись на
огонь, что тлел перед подошвами ее сапог: у нее-де и без того хватает с ним
хлопот, он горит еле- еле, вот почему ее не занимают люди, которые пробегают
мимо либо стоят и глотают дым, а уж тем паче ее не занимают люди, которых
она не знает, ей известны лишь те, кто из Биссау, Рамкау, Фирека или с
кирпичного, с нее и довольно. Сказав эти слова, бабка вздохнула, слегка, но
достаточно громко, так что мундиры полюбопытствовали, с чего это она так
развздыхалась. Она кивком указала на свой костерок, очевидно, в том смысле,
что вздыхает она из-за слабого ncm да малость из-за людей в дыму, потом
откусила своими редкими резцами половину картофелины, всецело отдавшись
жеванию, а глаза закатила вверх и налево. Мундиры полевой жандармерии
решительно не могли истолковать отсутствующий взгляд бабки, не знали, стоит
ли поискать за телеграфными столбами в направлении Биссау, и поэтому время
от времени тыкали своими карабинами в соседние, еще не занявшиеся кучи
ботвы. Потом, следуя внезапному побуждению, разом опрокинули обе полные
корзины, что стояли под локтями у бабки, и никак не могли уразуметь, почему
из плетенок покатились им под ноги сплошь картофелины, а никакой не
Коляйчек. Исполненные недоверия, они обошли картофельные бурты, словно
Коляйчек мог за такое короткое время укрыться соломкой на зиму, они кололи
уже с умыслом, но так и не дождались крика проколотого. Их подозрения
устремлялись даже на самый чахлый кустарник, на каждую мышиную норку, на
целую колонию кротовых холмиков и -- снова и снова -- на мою бабку, которая
сидела, словно приросши к месту, испускала вздохи, закатывала глаза, но так,
чтобы белок оставался виден, перечисляла имена всех кашубских святых, но
слабо тлеющий костерок и две опрокинутые корзины навряд ли могли объяснить
слишком скорбные и слишком громкие вздохи. Мундиры простояли около бабки с
полчаса, не меньше. Порой они стояли поодаль, порой ближе к огню,
прикидывали на глаз расстояние до трубы кирпичного завода, намеревались
прихватить и Биссау, но отсрочили атаку, подержали над огнем лиловые руки,
пока не получили от моей бабки, кото2рая все так же непрерывно вздыхала,
каждый по лопнувшей картофелине на палочке. Но в процессе пережевывания
мундиры вспомнили, что носят мундиры, отбежали на расстояние брошенного
камня через поле, вдоль стеблей дрока по краю оврага, спугнули зайца,
который тоже не был Коляйчеком. У костра они снова обнаружили мучнистые,
исходящие горячим паром бульбы, а потому из миролюбия и слегка утомясь
приняли решение снова покидать картошку в корзины, опрокинуть которые сочли
ранее своим долгом. Лишь когда вечер выдавил из октябрьского неба тонкий,
косой дождь и чернильные сумерки, они торопливо и без всякой охоты совершили
атаку на темнеющий вдали межевой камень, но после этого броска отказались от
дальнейших попыток. Еще недолго переминались с ноги на ногу, благословляющим
жестом подержали руки над полузалитым, во все стороны чадящим костерком, еще
закашлялись от зеленого дыма, залились слезой от дыма желтого, потом с
кашлем и слезами сапоги двинулись в сторону Биссау... Раз Ко-ляйчека здесь
нет, значит, Коляйчек в Биссау. Полевые жандармы всегда допускают лишь две
возможности. Дым от медленно умирающего огня окутал мою бабку наподобие
пятой юбки, до того просторной, что бабка в своих четырех юбках, со вздохами
и с именами всех святых на устах, тоже оказалась под юбкой, словно Коляйчек.
Лишь когда мундиры обратились в подпрыгивающие точки, медленно уходящие в
вечер между телеграфными столбами, бабка поднялась, да с таким трудом,
словно успела за это время пустить корни, а теперь, увлекая за собой корешки
и комья земли, прерывает едва начавшийся процесс роста.
дождем, широкий и короткий. Он поспешно застегнул штаны, которые страх и
безграничная потребность в укрытии повелели ему держать под юбкой в
расстегнутом виде. Опасаясь слишком быстрого охлаждения своего прибора, он
торопливо пробежал пальцами по пуговицам, ибо в такую погоду легче легкого
подцепить осеннюю простуду.
них она дала Коляйчеку, одну -- самой себе и, прежде чем надкусить свою, еще
спросила, не с кирпичного ли он завода, хотя уже могла бы понять, что
Коляйчек взялся не с кирпичного, а из другого места. Потом она, не обращая
внимания на его ответ, взвалила на него корзинку, что полегче, сама
согнулась под той, что тяжелее, одна рука у нее осталась свободной для
граблей и для мотыги, и в своих четырех юбках, помахивая корзиной,
картошкой, граблями и мотыгой, двинулась по направлению Биссау-Аббау.
Рамкау. Кирпичный завод они вставили по левую руку, двигаясь к черному лесу,
где располагался Гольдкруг, а за ним уже шло Брентау. Но перед лесом в
ложбине как раз и лежало Биссау-Аббау. Вот туда и последовал за моей бабкой
короткий в широкий Йозеф Коляйчек, который уже не мог расстаться с четыоьмя
юбками.
ПОД ПЛОТАМИ
кровати специального лечебного заведения, под прицелом стеклянного глазка,
оснащенного взглядом Бруно, воспроизвести полосы дыма над горящей кашубской
ботвой да пунктирную сетку октябрьского дождя. Не будь у меня моего
барабана, который, при умелом и терпеливом обращении, вспомнит из
второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге
главное, и не располагай я санкцией заведения на то, чтобы от трех до
четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жес тянке, я был бы
разнесчастный человек без документально удостоверенных деда и бабки. Во
всяком случае барабан мой говорит следующее: в тот октябрьский день года
девяносто девятого, покуда дядюшка Крюгер в Южной Африке с помощью щетки
взбивал свои кустистые англофобские брови, между Диршау и Картхаусом,
неподалеку от кирпичного завода в Биссау, под четырьмя одноцветными юбками в
чаду, страхах, стонах, под косым дождем и громким поминанием всех святых,
под скудоумные расспросы и затуманенные дымом взоры двух полевых жандармов
короткий, но широкий Йозеф Коляйчек зачал мою мать Агнес. Анна Бронски, моя
бабушка, успела еще под черным покровом той же ночи переменить имя: она
позволила стараниями щедро расточающего святые дары патера переименовать
себя в Анну Коляйчек и последовала за своим Йозефом хоть и не совсем в
Египет, но все же в центральный город провинции, что на реке Моттлау, где
Йозеф нашел работу плотогона, а вдобавок -- правда, на время -- укрылся от
жандармов. Лишь с тем, чтобы несколько усилить напряжение, я покамест не
называю город в устье Моттлау -- хотя он вполне заслуживает упоминания по
меньшей мере как то место, где родилась моя матушка. Под конец июля в году
ноль-ноль -- тогда как раз было принято решение удвоить кайзеровскую
программу по строительству военного флота -- ln матушка под знаком Льва
явилась на свет. Вера в себя и мечтательность, великодушие и тщеславие.
Первый дом, именуемый также Domus vitae', асцендент: впечатлительные
или Somus matrimonii uxoris1, судит осложнения. Венера в оппозиции к
Сатурну, который, насколько известно, вызывает заболевания печени и
селезенки, именуется "кислой" планетой, властвует в Козероге и празднует
поражение во Льве, который потчует Нептуна угрями, а взамен получает крота,
который любит красавку, лук и свеклу, изрыгает лаву и подбавляет кислоты в
вино; совместно с Венерой он обитал в восьмом доме, доме смерти, навевал
мысли о беде, в то время как зачатие на картофельном поле сулило
дерзновеннейшее счастье под покровительством Меркурия в доме родственников.
Здесь я не могу не вставить протест матушки, которая во все времена
решительно отрицала, что была зачата на картофельном поле. Правда, ее отец
-- это она не могла не признать -- уже там предпринял первые попытки, но
само его положение, равно как и поза Анны Бронски, были слишком неудачно
выбраны, чтобы создать Коляйчеку необходимые условия для оплодотворения.
то и вовсе на Троиле, когда мы нашли у сплавщиков прибежище и кров. --
Такими речами матушка обычно датировала свое зачатие, и бабушка, кому,
казалось бы, следует это лучше знать, кротко кивала и сообщала миру: -- Само
собой, донюшка, твоя правда, не иначе на возу это было, а то и вовсе на
Троиле, только уж никак не на поле, тогда и ветер дул, и дождь лил как из
ведра. Винцентом звали брата моей бабки. Рано овдовев, он совершил
паломничество в Ченстохову, и Матка Боска Ченстоховска повелела ему признать
ее будущей королевой Польши. С той поры Винцент только и делал, что рылся в
диковинных книгах, отыскивал в каждой фразе под-



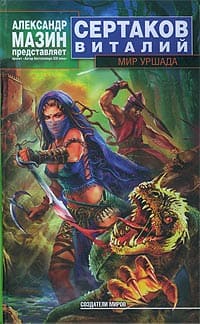


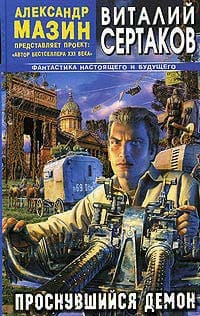 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Черепнин Владимир
Черепнин Владимир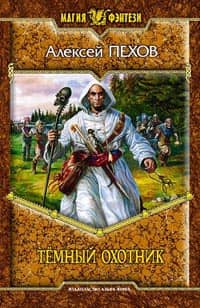 Пехов Алексей
Пехов Алексей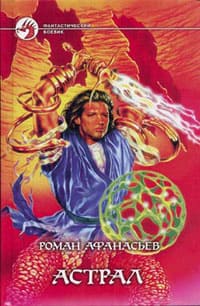 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Прозоров Александр
Прозоров Александр Круз Андрей
Круз Андрей