пил, я не сводил глаз с его кадыка. Не понравилось мне, как он их
опрокидывает, эти стаканчики. И даже когда он уже одолел винтовую лестницу
музея, а я снова уселся на свой гранитный шар, перед глазами у Оскара все
еще стоял подрагивающий кадык его друга Герберта.
завитушке, скакал верхом на нимфах и рогах изобилия, пожирал толстых
ангелов, что тянулись за цветами, делал переспелыми нарисованные гроздья
спелого винограда, ворвался в сельский праздник, поиграл там в жмурки,
взгромоздился на увитые розами качели, облагородил бюргеров, что в пышных
штанах совершали торговые сделки, поймал оленя, гонимого собаками, и,
наконец, достиг того окна на третьем этаже, которое позволило солнцу коротко
и, однако же, навеки осветить некий янтарный глаз.
постаменте. Лак белой обечайки и частицы лакированных языков пламени
отскочили и легли белыми и красными пятнышками на ступени крыльца.
после этого перед порталом музея остановилась карета "скорой помощи".
Прохожие выстроились по обе стороны от входа. Оскару удалось проскользнуть
внутрь вместе с санитарами, а уж лестницу я нашел скорее, чем они, хотя
после всех несчастных случаев им следовало бы свободно ориентироваться в
музее.
спереди, он затеял совокупиться с этим деревом. Его голова закрывала ее
голову, его руки об хватывали ее воздетые и скрещенные руки. Рубахи на нем
не было. Позднее рубаху обнаружили аккуратно сложенной на кожаном стуле у
дверей. Его спина зияла всеми рубцами и шрамами. Я читал эту тайнопись, я
подсчитывал знаки. Все были на месте. Но нигде не смог я отыскать даже
наметок нового рисунка.
трудов оторрать Герберта от Ниобеи. Короткий, заостренный с обеих сторон
корабельный топорик он в порыве страсти сорвал с цепи, одно лезвие всадил в
Ниобею, другое, одолевая бабу, в самого себя. Как ни безупречно удалось ему
соитие наверху, снизу, где у него были расстегнуты штаны, из которых все еще
торчало нечто, торчало бессмысленно и твердо, он так и не сумел отыскать
подходящий грунт для своего якоря. Когда они накрыли Герберта одеялом с
надписью: "Городская служба скорой помощи", Оскар, как и после каждой
утраты, вернулся к своему барабану. Он продолжал барабанить по жести
кулаками, когда служащие вывели его из Маричкиной горницы вниз по лестнице и
наконец доставили домой на полицейской машине.
деревом и плотью, Оскар принужден работать кулаками, дабы еще раз
предпринять странствие по спине Герберта Тручински, пестрой, покрытой
рубцами, дабы еще раз пройти лабиринт шрамов, твердый и чувствительный, все
предвещающий, все предсказующий, все превосходящий по твердости и
чувствительности. Подобно слепцу, читает Оскар письмена на этой спине.
резного дерева, приходит Бруно, мой санитар, и вся его грушевидная голова
выражает отчаяние. Он бережно снимает мои кулаки с барабана, вешает жестянку
на левый столбик в ногах моей металлической кровати, расправляет мое одеяло.
-- Но, господин Мацерат, -- увещает он меня, -- если вы и впредь будете так
громко барабанить, как бы в другом месте не услышали, что здесь барабанят
слишком громко. Не желаете ли вы отдохнуть или хотя бы барабанить потише?
Ладно, Бруно, я попробую продиктовать своему барабану очередную, более тихую
главу, хотя именно очередной теме скорее пристал свирепый рев
изголодавшегося оркестра.
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, под крышей,
держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, а сам с утра до вечера
ophjk`d{b`kq к бутылке с можжевеловкой. Так он все пил да пил до тех пор,
пока беда не заставила его протрезветь. Сегодня Оскар еще не согласен верить
в предзнаменования. Хотя тогда накопилось уже более чем достаточно
предзнаменований беды, которая натягивала сапоги все большего размера и в
сапогах все большего размера делала все большие шаги, вознамерясь разнести
беду по белу свету. А тут как раз умер мой друг Герберт Тручински от ранения
в грудь, нанесенного ему деревянной женщиной. Сама-то женщина не умерла. Ее
опечатали и переправили в музейные подвалы якобы для реставрации. Но беду не
упрячешь в подвал. Вместе со сточными водами она попадает в канализацию,
перетекает в газовые трубы, распределяется по всем кухням, и никто из
ставящих свой супчик на бледно- синее пламя горелки не знает и не ведает,
что пища его варится на беде. Когда Герберта хоронили на Лангфурском
кладбище, я второй раз увидел Дурачка Лео, с которым познакомился на
кладбище в Брентау. И всем нам -- мамаше Тручински, Густе, Фрицу и Марии
Тручински, толстой фрау Катер, старику Хайланду, который по праздникам
забивал для мамаши Тручински Фрицевых кроликов, моему предполагаемому отцу
Мацерату, который в своем великодушии, охотно выставляемом напоказ, взял на
себя добрую половину расходов по похоронам, а также Яну Бронски, который
почти и не знал Герберта, а пришел лишь затем, чтобы повидать Мацерата и,
может быть, меня на нейтральной территории, ~ нам всем, пуская слюни и
протягивая дрожащие руки в белых перчатках, Лео Дурачок выразил свое
безумное, не отличающее радость от горя соболезнование. Но когда перчатки
Лео Дурачка протянулись к музыканту Мейну, который пришел наполовину в
гражданском, наполовину в форме штурмовика, нам было явлено еще одно
предзнаменование грядущей беды.
увлекая за собой Лео через могильные холмы. Мы услышали его крик, однако то,
что обрывками слов оседало на кладбищенских кустах, ничем не напоминало
соболезнование.
похороны он стоял как бы одиноко, опознанный и отмеченный Лео Дурачком,
стоял, смущенно возился со свой трубой, которую нарочно принес с собой и на
которой перед этим дивно играл над могилой Герберта. Дивно потому, что Мейн,
чего уже давно не делал, заранее хлебнул можжевеловки, потому, что смерть
Герберта, с которым он был одних лет, больно его задела, тогда как меня и
мой барабан смерть Герберта заставила умолкнуть.
играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, как раз под
крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, и с раннего
утра до позднего вечера пил можжевеловку, пока году, думается, в тридцать
шестом или тридцать седьмом не вступил в конные части штурмовиков и там, уже
как трубач музыкантской роты, начал трубить хоть и грамотнее, но совсем не
дивно, ибо, влезши в подбитые кожей кавалерийские рейтузы, он принужден был
отречься от своей бутылочки и впредь уже только в трезвом виде дудел в свою
трубу. Когда у штурмовика Мейна умер друг его молодости Герберт Тручински, с
которым он в двадцатые годы принадлежал к коммунистической молодежной
группе, а позднее платил wkemqjhe взносы "Красным соколам", когда Герберта
опускали в могилу, Мейн схватился за свою трубу и одновременно за бутылку.
Ибо он хотел трубить дивно, а не трезво, ибо, восседая верхом на гнедом
коне, не утратил свой музыкальный слух, а потому, уже на кладбище, отхлебнул
еще глоток и потому, даже трубя, оставался в штатском плаще, надетом поверх
формы, хотя первоначально собирался трубить по-над кладбищенской землей в
коричневом мундире, правда с непокрытой головой. Давным-давно жил да был
штурмовик, который не снял плаща, надетого поверх формы, когда дивно и
просветленно -- от можжевеловки -- трубил над могилой друга юности. А когда
тот самый Дурачок Лео, который является непременной принадлежностью любого
кладбища, пожелал выразить собравшимся свое соболезнование, каждый из нас
услышал эти соболезнования. Только штурмовику Мейну не довелось прикоснуться
к белой перчатке Лео, ибо Лео опознал штурмовика, испугался и с громким
криком отказал ему в своей перчатке и в своем соболезновании. И тогда
штурмовик без соболезнования и держа в руках холодную трубу побрел домой,
где и застал у себя в квартире под самым чердаком нашего доходного дома
четырех своих кошек. Давным-давно жил да был штурмовик по имени Мейн. Со
времен, когда Мейн ежедневно пил можжевеловку и дивно играл на трубе, у него
сохранились четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк. Однажды, воротясь с
похорон Герберта Тручински, друга молодости, печальный и снова вполне
трезвый, потому что кто-то не пожелал выразить ему соболезнование, Мейн
увидел себя в полном одиночестве и с четырьмя кошками. Кошки терлись о его
кавалерийские сапоги, и Мейн дал им на куске газеты селедочные головы, что
заставило кошек забыть про его ноги. В тот день здесь стоял особенно сильный
запах от четырех кошек, которые, собственно говоря, все были коты, из
которых одного звали Бисмарк, и ходил он в черной шкурке на белых лапках. Но
дома у Мейна как на грех не оказалось можжевеловки. А от этого в квартире
все сильней пахло кошками, вернее говоря -- котами. Мейн, конечно, мог бы
прикупить бутылочку и у нас, в лавке колониальных товаров, не живи он на
пятом этаже, под самой крышей. А так он боялся лестницы и боялся соседей,
перед которыми не раз и не два торжественно клялся, что ни одна капля
можжевеловки не увлажнит больше его музыкальные губы, что для него началась
новая жизнь, что отныне и впредь жизнь его будет посвящена порядку, а не
хмельным утехам разгульной и бесшабашной юности. Давным-давно жил да был
человек по имени Мейн. И как-то раз, когда он обнаружил себя в своей
квартире под крышей наедине со своими четырьмя кошками, из которых одну
звали Бисмарк, кошачий запах показался ему совсем уж несносным, потому как
утром того же дня с ним произошло нечто постыдное, а еще потому, что в доме
не сыскалось ни капли можжевеловки. Но поскольку постыдность и жажда все
крепли, усиливая тем кошачий запах, Мейн, будучи музыкан том и членом
кавалерийской духовой капеллы у штурмовиков, схватил кочергу, что стояла
возле холодной печки, и до тех пор охаживал своих котов, пока не решил, что




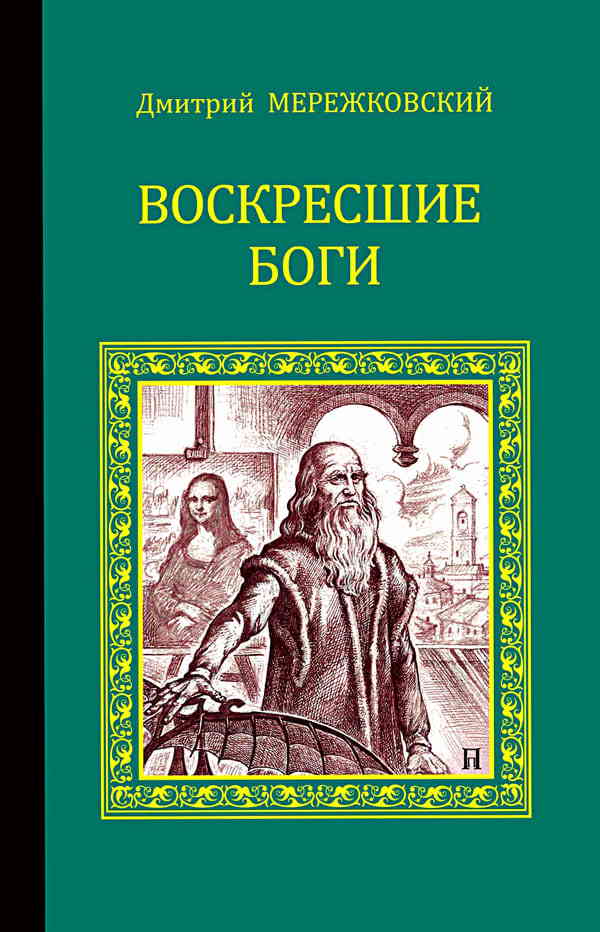

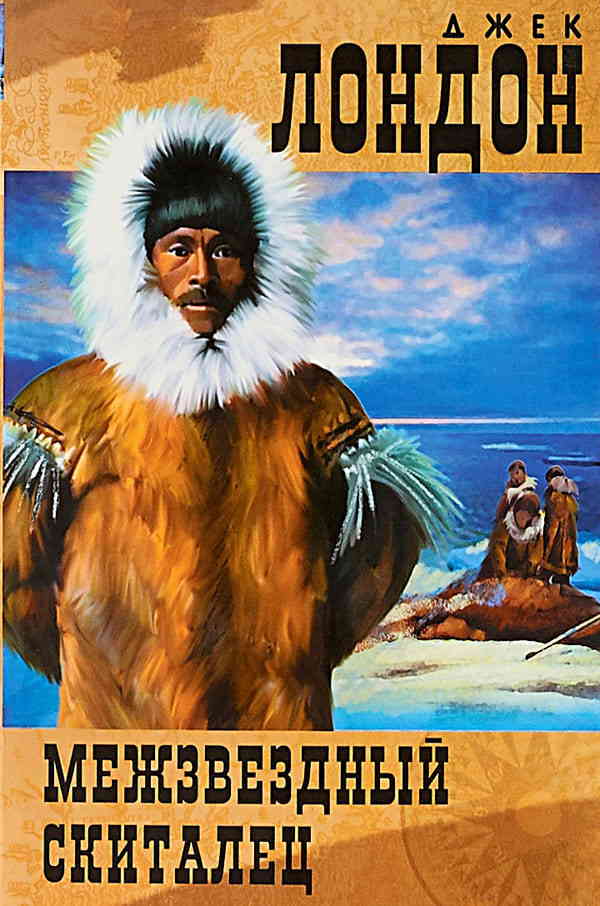 Лондон Джек
Лондон Джек Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Смоленский Вадим
Смоленский Вадим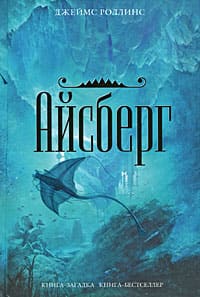 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Махров Алексей
Махров Алексей