прилавком и годился лишь для оптовых закупок на рынке, зато он научил ее
варить, тушить и жарить, потому что она хоть и проходила два года в
служанках у одного чиновничьего семейства из Шидлица, но, придя к нам, даже
воду не умела вскипятить толком.
матушки: он царствовал на кухне, он с очередным воскресным жарким поднимался
на одну ступень выше, он мог часами блаженствовать на кухне за мытьем
посуды, он походя осуществлял закупки, что с каждым военным годом
становилось все затруднительнее, делал предварительные заказы и расчеты с
фирмами на оптовом рынке и в хозяйственном управлении, довольно лихо вел
переписку с управлением налоговым, каждые две недели оформлял -- и даже не
сказать чтобы примитивно, а проявляя изрядную долю фантазии и вкуса -- нашу
витрину, с чув ством глубокой ответственности выполнял свою партийную ерунду
и, поскольку Мария незыблемо стояла за прилавком, был загружен целиком и
полностью.
описание таза, бровей, ушных мочек, рук и ног молодой девушки? Будучи
совершенно одного с вами мнения, я так же, как и вы, осуждаю подобное
вхождение в детали. Недаром Оскар твердо убежден, что до сей поры ему
удалось исказить образ Марии, а то и вовсе очернить на все времена. Поэтому
еще одна, последняя и, надеюсь, все объясняющая, деталь: если отвлечься от
множества безымянных сестер, Мария была первой любовью Оскара.
что делал нечасто, а именно сам вслушался в барабанный бой и не мог не
заметить, как по-новому, проникновенно и в то же время бережно, поверял
Оскар барабану свою страсть. Мария охотно слушала барабанный бой, но мне не
очень нравилось, когда она при этом вынимала свою губную гар мошку, уродливо
морщила лоб и считала своим долгом мне подыгрывать. Но часто, штопая чулки
или развешивая по кулькам сахар, она вдруг опускала руки, бросала на меня
серьезный и внимательный взгляд между палочками, причем лицо ее оставалось
совершенно безмятежным, и, прежде чем возобновить прерванную работу, вдруг
мягким, полусонным движением скользила по моим коротко остриженным волосам.
ласковых, сносил руку Марии на своих волосах и до такой степени этому
отдавался, что порой часами уже вполне сознательно выбивал на жести
подстрекающие к поглаживанию ритмы, пока наконец рука Марии не откликнется и
не потешит его.
постель. Она раздевала меня, мыла, помогала надеть пижамку, напоминала мне
перед сном, что надо еще раз отлить водичку, молилась со мной, хоть и была
протестантской веры, читала Как ни хороши были эти последние минуты перед тем, как погасят свет --
я постепенно с нежным намеком переделывал и "Отче наш", и
"Иисусеты-жизньмоя" в "Звездаморскаяприветтебе" и "Любить-Марию", --
ежевечерние приготовления ко сну стали мне в тягость, почти, можно сказать,
расшатали мое самообладание, навязав мне, во все времена способноу сохранить
лицо, предательский румянец подростков и неуверенных молодых людей. Оскар
честно признает; всякий раз, когда Мария собственными руками раздевала меня,
ставила в цинковую ванну и с помощью махровой рукавицы, с помощью щетки и
мыла растворяла на моей коже пыль барабанного дня и отскребала ее, --
словом, всякий раз, когда до моего сознания доходило, что я, почти
шестнадцатилетний, нагишом стою перед семнадцатилетней девушкой во всей
своей красе, мои щеки надолго заливал яркий, жгучий румянец.
Может, она думала, что меня до такой степени разгорячили щетка и махровая
рукавичка? Или она убеждала себя, что Оскар так багровеет из-за
гигиенических мероприятий? Или была настолько стыдлива и тактична, что,
угадав истинную причину моего ежевечернего румянца, как бы не замечала его?
длящейся порой целых пять минут, а то и дольше красноте. Подобно моему
деду-поджигателю Коляйчеку, который багровел как пожарный петух, едва
кто-нибудь произнесет при нем слово "спички", у меня кровь приливает к
щекам, когда кто- нибудь, с кем я вовсе не обязательно должен быть знаком, в
мо ем присутствии заведет речь о малых детях, которых каждый вечер растирают
в ванне махровой рукавичкой и щеткой. Тогда Оскар делается похожим на
индейца, окружающие посмеиваются, называют меня странным, даже не вполне
нормальным, ибо какое значение в глазах окружающих имеет то обстоятельство,
что маленьких детей намыливают, отскребают и проводят у них махровой
рукавичкой по всяким сокровенным местечкам?
моем присутствии самые рискованные шутки. Так, например, она каждый раз,
прежде чем мыть полы в гостиной и в спальне, скатывала вниз от бедра
шелковые чулки, которые подарил ей Мацерат и которые она боялась порвать.
Как- то раз в субботу, уже после закрытия -- Мацерат ушел по каким- то своим
партийным делам, и мы оказались дома одни, -- Мария сбросила юбку и блузку
и, оказавшись в плохонькой, но опрятной нижней юбке возле меня за столом,
принялась оттирать бензином пятна с юбки и вискозной блузки. И как же оно
так получилось, что, едва Мария сняла верхнюю одежду, а запах бензина
улетучился, от нее приятно, с наивным очарованием запахло ванилью? Уж не
натиралась ли она этой пряностью? или существовали дешевые духи с таким
ароматом? Или это был ее собственный запах, так же ей присущий, как от
некоей фрау Катер всегда разило нашатырем, как моя бабка Коляйчек хранила у
себя под юбками запах чуть прогорклого масла? Оскар, которому хотелось во
всем дойти до самой сути, занялся проблемой ванили. Итак, Мария не
натиралась ванилью. Она просто издавала запах ванили. Более того, я и по сей
день убежден, что Мария даже и не сознавала присутствие этого запа ха, ведь,
когда у нас по воскресеньям после телячьего жаркого с картофельным пюре и
цветной капустой, политой растопленным маслом, на столе колыхался --
колыхался потому, что я ударил башмаком по ножке стола, -- ванильный пудинг,
Мария, обожавшая манный пудинг с фруктовой подливкой, съедала от пудинга
самую малость, да и то без всякой охоты, тогда как Оскар и по сей день
буквально влюблен в этот самый простой и, вероятно, самый банальный из всех
существующих пудингов. В июле сорокового, после того как чрезвычайные
сообщения поведали нам о поспешно-победоносном завершении французского
похода, начался купальный сезон на побережье Балтийского моря. Покуда брат
Марии Фриц, ставший обер-ефрейтором, посылал нам первые открытки из Парижа,
Мацерат и Мария со вместно решили, что Оскара надо возить на пляж, так как
морской воздух несомненно пойдет ему на пользу. В обеденный перерыв -- а
лавка была закрыта с часу до трех -- Марии предстояло возить меня на
брезенский пляж, а если она даже и до четырех задержится, говорил Мацерат, в
том беды тоже нет, он иногда не прочь для разнообразия постоять за
прилавком, показаться на глаза покупателям. Для Оскара приобрели синий
купальный костюм с нашитым якорем, а у Марии уже был свой зеленый с красной
каемкой, его подарила ей сестра Густа к первому причастию. В пляжной сумке
еще с матушкиных времен сыскался белый и мохнатый купальный халат, точно так
же оставшийся после матушки, а к халату самым ненужным образом прибавилось
ведерко, совочек и всевозможные формочки. Мария несла сумку. Барабан я нес
сам. Оскар слегка побаивался проезжать на трамвае мимо кладбища Заспе.
Возможно, ему следовало опасаться, что вид этого столь безмолвного и однако
же столь красноречивого места вконец испортит и без того не слишком рьяное
купальное настроение. Оскар невольно задавался вопросом, как поведет себя
дух Яна Брон-ски, когда его погубитель в легкой летней одежде проедет на
звенящем трамвае мимо его могилы? Девятка остановилась, кондуктор громко
выкрикнул: "Заспе!" Я сосредоточенно глядел мимо Марии туда, где лежал
Брезен и откуда, медленно увеличиваясь в размерах, наплывал встречный
трамвай. Только не отводить взгляд. Да и что там можно увидеть? Чахлые
прибрежные сосны, переплетенные ржавые оград ки, неразбериха покосившихся
могильных плит, надписи на которых мог бы прочесть разве что береговой
репейник да глухой овес. Уж лучше бросить взгляд из открытого окна кверху:
вот они гудят, пузатые Ю-52, как могут гудеть лишь трехмоторные самолеты да
очень жирные мухи. Звонок -- и мы тронулись с места, и встречный вагон
загородил наши окна. Но сразу за прицепным мою голову словно вывернуло: я
увидел целиком все это заброшенное кладбище и кусок северной стены,
вызывающе белое пятно на которой хоть и лежало в тени, но все равно до чего
ж тягостно...
глядеть на Марию. Она заполнила собой легкое, цветастое летнее платье.
Вокруг полной, матово блестевшей шеи, на хорошо подбитых жирком изнутри
ключицах прилегали одна к другой густо-красные вишни деревянных бус, все они
были одинаковой величины и демонстрировали лопающуюся зрелость. Так как же,
чудилось мне или я обонял это на самом деле? Оскар чуть нагнулся ~ да, Мария
прихватила с собой на пляж свой запах ванили, -- глубоко втянул ноздрями
воздух и на какое-то время одолел разлагающегося Яна Бронски. Оборона
Польской почты стала историей, прежде чем у ее защитников мясо отстало от
костей. А у Оскара Уцелевшего в носу царили совсем иные запахи, нежели те,
которые мог бы издавать его некогда столь элегантный, а ныне гниющий
предполагаемый отец.
Оскар разрешает это только ей, -- и новела себя и меня через прибрежные
сосны к купальне. Несмотря на мои почти шестнадцать -- но смотритель при
купальнях ничего в этом не смыслил, -- меня пропустили в дамское отделение.
Температура воды -- восемнадцать, воздуха -- двадцать шесть, ветер -- ост,
без осадков -- стояло на черной доске, возле щита спасательной станции, с
инструкциями по оживлению утопленников и с нескладными, старомодными
картинками. На всех утопленниках были полосатые купальные костюмы, у всех
спасателей -- усы, а по коварной и опасной воде плавали соломенные шляпы.
подпоясалась вервием, на котором висел здоровенный ключ, подходивший ко всем
кабинкам. Деревянные мостки. Перила вдоль мостков. Сухой кокосовый половик
вдоль всех дверей. Нам отвели кабинку номер пятьдесят три. Дощатые стенки,
сухие и теплые, того естественного синевато-белого цвета, который я назвал






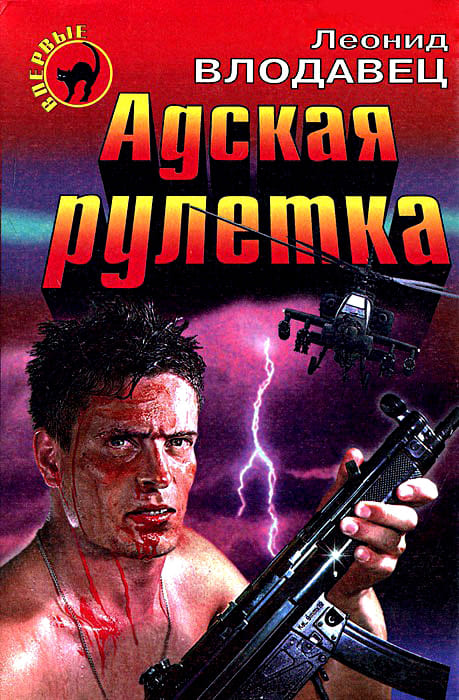 Влодавец Леонид
Влодавец Леонид Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав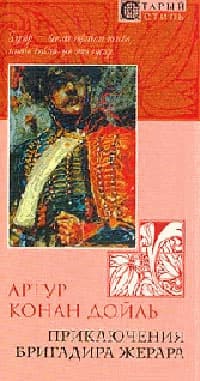 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Елманов Валерий
Елманов Валерий Бажанов Олег
Бажанов Олег Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк