заболеть за одну ночь? Право отлеживаться в постели широко использовала его
жена, к тому же я знал, что Грефф вообще презирает мягкие постели и
предпочитает спать на походных раскладушках либо на жестких нарах. Да и
вообще на свете не было и не могло быть болезни, способной приковать
зеленщика к постели.
Мацерат там, внутри, и лишь после этого осторожно выбил несколько тактов,
рассчитывая на тонкий слух Греффихи. Шуму понадобилось немного, и вот уже
открылось второе окно справа от двери. Греффиха -- в ночной сорочке, голова
вся в папильотках, к груди прижата подушка -- возникла над цветочным ящиком
с ледянками.
холодрынь?!
закрывавшему витрину.
двери, я услышал, как она громыхает внутри лавки, и сразу после этого она
завела свой крик. Она кричала в подвале, но я не мог со своего места
увидеть, почему она кричит, поскольку подвальный люк, куда в дни завоза --
все реже за последние военные годы -- засыпали картофель, тоже был закрыт.
Прижавшись глазом к пропитанным смолой балкам вокруг люка, я увидел, что в
подвале горит свет. Еще я увидел кусок лестницы, ведущей в подвал, и там
лежало что-то белое, не иначе подушка Греффихи, догадался я.
подвале не было, а крик ее уже доносился из лавки и, немного спустя, из
спальни. Она сняла телефонную трубку, она кричала и набирала номер, потом
кричала в трубку, но Оскар не понял, о чем она кричит, он только подхватил
слово "несчастье", адрес "Лабесвег, 24" она выкрикнула несколько раз, потом
повесила трубку, не прекращая крик, все в той же ночной сорочке, без
подушки, но с папильотками заполнила оконный проем, перелив и самое себя, и
все свои столь хорошо мне знакомые богатства в цветочный ящик с ледянками,
хлопнула обеими руками по мясистым, бледно-красным стеблям и закричала
поверх ящика, так что улица стала тесной, и Оскар уже поду мал" вот сейчас
она тоже начнет резать голосом стекло, но все окна остались целы. Они просто
распахнулись, и к лавке начали стекаться соседи, женщины громко вопрошали
друг друга, мужчины спешили, часовщик Лаубшад, успевший лишь наполовину
засунуть руки в рукава пиджака, старик Хайланд, господин Райс- берг, портной
Либишевски, господин Эш из ближайшего подъезда и даже Пробст, не парикмахер
Пробст, а торговец углем, явился со своим сыном. В белом халате прямо из-за
прилавка примчался Мацерат, в то время как Мария с маленьким Куртом на руках
осталась стоять в дверях нашей лавки.
таким образом не угодить в руки Мацерату, который меня разыскивал. Он и еще
часовщик Лаубшад были первыми, кто решился подойти к двери. Люди пытались
залезть в квартиру через окно. Но Греффиха никому не давала залезть наверх,
не говоря уже о том, чтобы внутрь. Царапаясь, кусаясь и рассыпая удары, она
находила, однако, время, чтобы кричать все громче и громче и отчасти даже
вполне членораздельно. Сперва должна прибыть "скорая помощь", она уже давно
туда позвонила, звонить больше незачем, уж она-то знает, как поступать в
таких случаях. А им всем лучше позаботиться о собственных делах. И без того
одна срамота, чистое любопытство, ничего, кроме любопытства, сразу видно,
куда деваются друзья, когда нагрянет беда. Но в ходе своих при читаний она,
видно, углядела меня среди собравшихся перед ее окном, ибо окликнула меня и,
стряхнув с подоконника мужчин, протянула ко мне голые руки. И кто-то --
Оскар по сей день уверен, что это был часовщик Лаубшад -- поднял меня, хотел
против воли Мацерата передать ей, но перед самым цветочным ящиком Мацерат
чуть не перехватил Оскара, а тут в него уже вцепилась Лина Грефф, прижала к
своей теплой сорочке и перестала кричать, лишь плакала, поскуливая, и
вздыхала, все так же поскуливая.
бесстыдно жестикулирующую толпу, так ее тонкое хныканье превратило их в
толпу молчащую, смущенно шаркающую ногами, почти не смевшую смотреть в лицо
рыданиям и все свои надежды, все любопытство, все участие возлагавшую на под
жидаемую карету "скорой помощи".
вниз, чтобы не внимать ее страдальческим всхлипам с такого близкого
расстояния. Мне удалось отцепиться от нее и полуприсесть на ящик с цветами.
Но Оскар слишком глубоко сознавал, что за ним следят, потому что в дверях
нашей лавки стояла Мария с ребенком на руках. Тогда я отказался и от этого
сидения, понял всю неловкость своей позы, думал при этом лишь про 'Марию --
соседи меня не интересовали, -- оттолкнулся от греффовского берега, который,
на мой взгляд, слишком уж сотрясался и символизировал кровать.
удержать маленькое тельце, которое долгое время усердно служило ей заменой.
Может, она смутно чувствовала, что Оскар навсегда от нее ускользает, что от
ее крика родился на свет звук, который, с одной стороны, воздвиг стену и
шумовую кулису между ней, прикованной к постели, и ее бара банщиком, с
другой -- обрушил уже существовавшую стену между мной и Марией.
неуверенно. Оскар знал эту комнату, он мог бы наизусть продекламировать
ярко-зеленые обои хоть в длину, хоть в ширину. На табуретке еще остался
тазик для умывания с серой мыльной пеной после вчерашнего. Все вещи остались
на прежних местах, и однако захватанные, просиженные, пролежан ные,
поцарапанные предметы меблировки казались мне свежими или по меньшей мере
освеженными, словно все, что на четырех столбиках либо ножках недвижно
лепилось к стенам, только и ждало, когда Лина Грефф сперва издаст крик,
потом заскулит высоким голосом, чтобы обрести новый, пугающе холодный
глянец.
позволил увлечь себя в пропахшее сухой землей и луком помещение, которое
дневной свет, что проникал сквозь щели в закрытых ставнях, нарезал на части
с помощью плясавших в этих полосах света пылинок. Поэтому большинство
шумовых и музыкаль ных поделок Греффа оставалось в полумраке, и лишь на
некоторые детали, на колокольчик, на фанерные распорки, на основание
барабанной машины падал свет, демонстрируя мне застывшие в равновесии
картофелины.
позади прилавка, была открыта, ничто не поддерживало дощатую крышку,
вероятно откинутую Греффихой в ее вопящей спешке, только крючок она не
засунула в скобу на прилавке. Легким толчком Оскар мог бы уронить крышку и
тем запереть подвал.
глаза в тот освещенный резким светом четырехугольник, который обрамлял часть
лестницы и часть бетонного пола. В этот квадрат сверху и справа вторгался
ступенчатый помост, вероятно новое приобретение Греффа, ибо при моих прежних
случайных визитах в погреб я этого сооружения ни разу не видел. Впрочем,
ради одного только помоста Оскару едва ли стоило так долго и так неподвижно
устремлять свой взгляд в недра погреба, когда бы из правого верхнего угла
картины не выдвинулись два наполненных изнутри и странно укороченных
шерстяных носка в черных шнурованных башмаках. Я сразу признал походные
башмаки Греффа, хоть и не мог разглядеть подметки. Не может быть, чтобы это
Грефф, готовый к походу, стоял там в подвале, подумал я, потому что ботинки
у него совсем не стоят, потому что они свободно парят над помостом, разве
что вертикально развернутым книзу носкам башмаков удается, хоть и с трудом,
касаться досок. Итак, в течение одной секунды я представлял себе Греффа,
стоящего на цыпочках, ибо от такого спортивного, близкого к природе человека
вполне можно было ожидать, что он способен на это хоть и комическое, но
весьма трудное упражнение.
высмеять зеленщика, я, проявляя предельную осторожность на крутых ступенях,
спустился по лестнице вниз и -- если память мне не изменяет -- выбил на
своем барабане нечто устрашающее и отгоняющее страх: "Где у нас кухарка,
Черная кухарка? Здесь она, здесь она быть должна, быть должна!"
взглядом все кругом: связку пустых луковых мешков, сложенные штабелями, тоже
пустые ящики из-под фруктов, пока, скользнув взглядом по не виденному ранее
скрещению балок, приблизился к тому месту, где висели -- либо стояли на
носках -- походные башмаки Греффа.
башмаков висели темно-зеленые носки грубой вязки. Голые мужские коленки над
краями носков, волосатые ляжки -- до края штанов; тут от моего причинного
места по ягодицам, немеющей спине, вверх по позвоночнику пробежали колючие
мураш ки, они продолжились в шее, ввергали меня попеременно в жар и в холод,
снова ринулись оттуда вниз, ударили между ног, заставили сморщиться и без
того жалкий мешочек, снова проскочив по чуть согнутой спине, оказались в
шее, там ее сжали, -- и по сей день Оскара колет и душит, когда кто-нибудь в
его присутствии говорит о повешении или просто о развешивании белья. Висели
не только походные башмаки Греффа, шерстяные носки, коленки и шорты, висел
весь Грефф, подвешенный за шею, и поверх веревки демонстрировал напряженное
лицо, не лишенное, впрочем, театральности.
И сам вид Греффа нормализовался! Ведь если вдуматься, поза висящего человека
столь же нормальна и естественна, как, например, вид человека, который ходит
на руках, человека, который стоит на голове, человека, который действительно
имеет жалкий вид, когда карабкается на четвероногого жеребца, чтобы
пуститься вскачь.
пышностью окружил себя Грефф. Рамка, то есть окружение, в котором Грефф



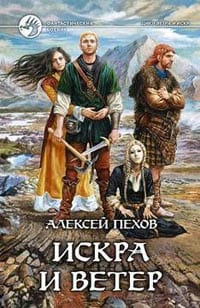


 Шилова Юлия
Шилова Юлия Дальский Алекс
Дальский Алекс Флинт Эрик
Флинт Эрик Березин Федор
Березин Федор Каменистый Артем
Каменистый Артем Бажанов Олег
Бажанов Олег