висел, была изысканного, я бы даже сказал -- экстравагантного вида. Зеленщик
отыскал для себя приличествую щую ему форму смерти, нашел смерть продуманную
и гармоничную. Он, кто при жизни имел столько трений с чиновниками из палаты
мер и весов и вел с ними тягостную переписку, он, у кого неоднократно
изымались весы и гири, он, кому из-за неточностей при взвешивании фруктов и
овощей приходилось выплачивать штрафы, теперь с точностью до грамма
уравновесил себя при помощи картошки.
перебегала через две балки, специально им приколоченные ради его последнего
дня, поверх каркаса, созданного с единственной целью: стать последним
каркасом для Греффа. По расходу строительного дерева дорогих пород я мог
заключить, что зеленщик не пожелал мелочиться. Нелегко ему, наверное, было в
бедное на стройматериалы военное время раздобыть нужные балки и доски.
Должно быть, он их наменял -- дерево за фрукты. Вот почему этот каркас имел
множество не очень нужных, чисто декоративных деталей. Трехчастный, идущий
ступенями помост -- угол его Оскар мог углядеть уже из лавки -- поднимал все
сооружение в сферы почти возвышенные.
умельцу, Грефф и его противовес висели в пределах каркаса. Резко отличаясь
от четырех беленых угловых балок, между ним и точно так же подвешенными
плодами земными стояла изящная зеленая лесенка. А корзины с картофелем он
при помощи искусного узла, как его умеют вывязывать одни скауты, прикрепил к
основной веревке. Поскольку изнутри каркас был подсвечен четырьмя, правда
закрашенными в белый цвет, но все же ярко сияющими, лампочками, Оскар мог,
не поднимаясь на торжественный помост и, стало быть, не оскверняя его,
прочесть белую табличку, прикрученную проволокой к скаутскому узлу как раз
над корзинами с картофелем: "Семьдесят пять килограммов (без 100 граммов)".
вновь вернулся к одежде довоенных времен. Она стала ему чуть тесна. Обе
верхние пуговицы и ту, что на поясе, он так и не сумел застегнуть, это
вносило какой-то неприятный оттенок в его всегда подобранный вид. Два пальца
левой руки Грефф скрестил по обычаю скаутов. К правому запястью повесив
шийся -- перед тем как повеситься -- привязал скаутскую шляпу. От галстука
ему пришлось отказаться. Поскольку ему, так же как и на поясе, не удалось
застегнуть верхние пуговицы сорочки, из нее выбивались кудрявые черные
волосы, росшие на груди.
стебельков петрушки. Верно, ему не хватило цветов, потому что большую часть
астр и несколько роз он извел на то, чтобы обвить цветами каждую из четырех
картинок, прикрепленных к каждому из четырех опорных столбов. Слева впереди
под стеклом висел сэр Баден-Поуэлл, основатель движения скаутов. Слева,
сзади, без рамки -- Святой Георгий. Справа, сзади, без стекла -- голова
микеланджеловского Давида. В рамке и под стеклом улыбался с переднего столба
вызывающе красивый мальчик, примерно шестнадцати лет. То было раннее фото
его любимца Хорста Доната, который уже лейтенантом пал на реке Донец.
астрами и петрушкой. Лежали клочки так, что их без труда можно было сложить.
Оскар и сложил, после чего сумел прочесть вызов в суд, многократно
проштемпелеванный печатью полиции нравов.
смерти зеленщика меня оторвала сирена "скорой помощи". Немного спустя они
загрохотали вниз по лестнице, вверх по помосту и занялись висящим Греффом.
Но едва они его приподняли, служившие противовесом корзины с картофелем
упали и опрокинулись: как и в случае с барабанной машиной, заработал
высвобожденный механизм, искусно запрятанный Греффом поверх каркаса и
прикрытый фанерой. И покуда внизу картофелины с грохотом сыпались на
бетонный пол, наверху било по жести, дереву, стеклу, бронзе: то
высвобожденный барабанный оркестр отстучал великий финал Альбрехта Греффа.
своей жестянке рокот картофельной лавины -- отчего, к слову сказать, неплохо
поживились некоторые санитары -- и весь упорядоченный шум барабанной машины
Греффа. Но потому, вероятно, что мой барабан оказал решающее воздействие на
постановку Греффовой смерти, мне порой удается переложить для барабана
завершенную, воспроизводящую смерть Греффа пьесу, которую, если друзья или
санитар Бруно спрашивают меня о названии, я называю так: "Семьдесят пять
килограммов".
ФРОНТОВОЙ ТЕАТР БЕБРЫ
отец Курта, отнесся к этому событию спокойно, думая про себя: еще два
годика. В октябре сорок второго зеленщик Грефф повесился на столь
совершенной по форме виселице, что я, Оскар, начал с тех пор считать
самоубийство наиболее возвышенным видом смерти. В январе сорок третьего было
много разговоров про город Сталинград. Но поскольку Мацерат произносил
название этого города тем же тоном, что -- в свое время -- названия
Пирл-Хар-бор, Тобрук или Дюнкерк, я уделял событиям в этом далеком городе не
больше внимания, чем другим городам, известным мне из экстренных сообщений,
ибо для Оскара сводки вермахта и экстренные сообщения служили своего рода
уроком географии. Как мог бы я иначе узнать, где протекают реки Кубань, Миус
и Дон, кто мог бы лучше растолковать мне географическое положение Алеутских
островов Атту, Киска и Алак, чем это делали подробные радиопередачи о
событиях на Дальнем Востоке. Вот так в январе сорок третьего года я узнал,
что Сталинград лежит на реке Волге, но все равно судьба Шестой армии
занимала меня куда меньше, чем Мария, у которой в ту пору был легкий грипп.
уроки географии: Ржев и Демьяиск и по сей день остаются для Оскара городами,
которые он без долгих раздумий отыщет на любой карте Советской России. Едва
Мария выздоровела, мой сын Курт подцепил коклюш. И покуда я силился
запомнить трудные названия оазисов Туниса, ставших центром жарких боев,
нашему африканскому корпусу, равно как и коклюшу, пришел конец.
подготовкой второго дня рождения Куртхена. Этому празднику Оскар тоже
придавал большое значение, ибо после двенадцатого июни сорок третьего года
оставался всего лишь год. Будь я дома, я мог бы прошептать на ушко своему
сыну Курт-хену: "Подожди немного, выбьешь дробь и ты". Но сложилось так, что
двенадцатого июня сорок третьего года Оскар находился не в Данциге --
Лангфуре, а в старинном римском городе Метц. Причем отсутствие его настолько
затянулось, что ему стоило больших трудов своевременно попасть в милый
сердцу и все еще не подвергавшийся бомбежке родной город, чтобы двенадцатого
июня сорок четвертого года отпраздновать третий день рождения Куртхена.
околичностей поведано: перед школой Песталоцци, которую превратили в казарму
для летчиков, я повстречал своего наставника Бебру. Впрочем, будь Бебра
один, он не сумел бы подбить меня на это путешествие. Но Бебру держала под
руку Рагуна, синьора Розвита, великая сомнамбула.
полистал там недолго популярную "Битву за Рим>>, обнаружил, что уже тогда,
во времена Велизария, историческая жизнь выглядела весьма пестро, что уже
тогда с большим размахом либо торжествовали победы, либо утирались по
причине поражения на речных переправах и у городов.
поселок, принадлежащий организации Тодта, оставаясь мыслями возле Тагине,
где в пятьсот пятьдесят втором году Нарсес разгромил Тоти-лу. Но не эта
победа заставляла мои мысли задерживаться на великом армянине по имени
Нарсес, а скорей уж сама фигура полководца: Нарсес был уродцем, был горбат,
мал ростом, карлик, гном, лилипут. Может, Нарсес был на одну голову, на
детскую головку выше, чем Оскар, думал я, остановился перед школой
Песта-лоцци и поглядел, сравнивая, на орденские колодки некоторых слишком
быстро выросших офицеров авиации. Нарсес орденов наверняка не носил, не имел
в том надобности, -- и тут в главном подъезде школы возник собственной
персоной тот самый полководец, на руке у него висела дама, -- а почему бы
Нарсесу и не иметь при себе дамы? -- они двигались мне навстречу, крохотные
рядом с авиавеликанами, и все же оставались центром и средоточием картины,
овеянные дыханием истории, древние как мир среди свежеиспеченных героев
воздуха, -- чего стоила вся казарма, полная Тотила-ми и Тейями, полная
долговязых остготов против одно-го-единственного армянского карлика по имени
Нарсес, а этот Нарсес шажок за шажком приближался к Оскару, махал ему рукой,
и дама рядом с ним тоже махала: то приветствовали меня Бебра и синьора
Розвита Рагу-на -- воздушный флот почтительно уступал нам дорогу, -- я
приблизил губы к уху Бебры и прошептал:
которого ценю гораздо выше, чем атлета Велизария.
вкусу. Как она красиво шевелила губами, когда начала говорить!
не течет в твоих жилах кровь принца Евгения? Е Мпдпцйгп quattordicesimo?)
Разве он не твой предок?
переставали восхищенно на нас пялиться, чем уже начали нам докучать. Когда
после этого лейтенант, а вслед за ним два унтер-офицера вытянулись перед
Беброй в струнку -- у моего наставника на погонах были капитанские знаки
различия, а на рукаве полоска с надписью "рота пропаганды", -- когда
орденоносные юноши попросили и получили у Рагуны автограф, Бебра подозвал
свою служебную машину, мы сели в нее и, уже отъезжая, слышали восторженные
аплодисменты авиаторов.
сидел возле шофера. Уже на Магдебургерштрассе Рагуна использовала мой
барабан как предлог для разговора.



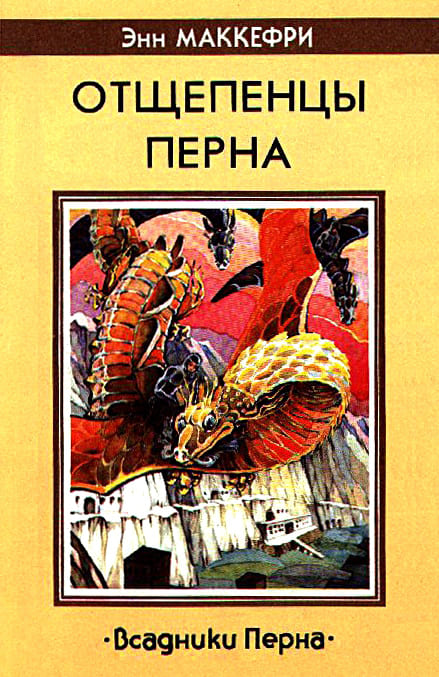


 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Суворов Виктор
Суворов Виктор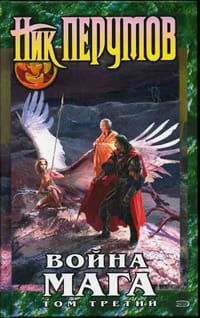 Перумов Ник
Перумов Ник Николаев Андрей
Николаев Андрей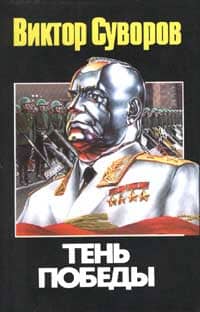 Суворов Виктор
Суворов Виктор