мне. -- Смотри, как бы он не погубил твой голос!
новоготическое окно, потом отвел глаза, но не стал петь, не последовал за
своим взглядом, а кротко зашагал подле Марии к подземному переходу через
Банхофштрассе, сквозь туннель, где с потолка падали капли, потом наверх, в
Кляйнхаммер-парк, направо, к Мариенштрассе, мимо лавки мясника Вольгемута,
налево по Эльзенштрассе, через Штрис-бах к Новому рынку, где как раз копали
пруд для нужд противовоздушной обороны. Лабесвег был длинной улицей, и все
же мы наконец пришли; тогда Оскар покинул Марию и бегом одолел девяносто
ступенек -- на чердак. Там сохли простыни, а за простынями громоздились кучи
песка все для той же противовоздушной обороны, а за песком и ведрами, за
пачками старых газет и штабелями черепицы лежала моя книга и мой запас
барабанов со времен фронтового театра. И еще в коробке из-под обуви лежало
несколько хоть и отслуживших свой век, но сохранивших грушевид- ную форму
электрических лампочек. Оскар взял первую, разрезал ее своим голосом, взял
вторую, превратил ее в стеклянную пыль, у третьей бережно отделил верхнюю,
утолщенную часть, на четвертой вырезал красивыми буквами слово "Иисус",
после чего превратил и стекло, и надпись в порошок, хотел повторить этот
подвиг еще раз, но тут у него, как на грех, кончились лампочки. В полном
изнеможении я опустился на кучу противовоздушного песка: выходит, у Оскара
еще сохранился голос. И значит, у Иисуса еще сохранился возможный преемник.
Что до чистильщиков, то им предстояло сделаться моими первыми учениками.
ЧИСТИЛЬЩИКИ
собрать вокруг себя учеников мне крайне трудно, -- однако тогдашний призыв
Иисуса разными окольными путями достиг моих ушей и сделал меня преемником,
хоть я и не верил в своего предшественника. Но в соответствии с правилом:
кто сомневается, тот верует, а кто не верует, тот верует дольше всех -- мне
не удалось зарыть под бременем сомнений малое чудо, явленное лично мне в
церкви Сердца Христова, более того -- я попытался подбить Иисуса на
повторение концерта с барабаном.
снова ускользал от мамаши Тручински, которая была прикована к креслу, а
потому и не могла последовать за мной. Чем же мог меня попотчевать Иисус?
Почему я проводил целые ночи в левом приделе, позволяя служке запереть меня?
Почему в левом приделе у Оскара стекленели уши и каменели все члены? Ибо,
несмотря на сокрушительное смирение и столь же сокрушительное богохульство,
я не мог услышать ни свой барабан, ни голос Иисуса.
зубами так, как стучал на плитах в полуночной церкви Сердца Христова. Какой
дурак смог бы в ту пору найти трещотку лучшую, чем Оскар? Я имитировал
фронтовой эпизод, заполненный расточительной трескотней пулеметов, я зажимал
у себя между верхней и нижней челюстью целое правление страховой компании
вкупе с девушками- секретаршами и пишущими машинками. Звуки разлетались в
разные стороны, находя отклик и аплодисменты. И колонны сотрясал озноб, и
своды покрывались гусиной кожей, и мой кашель скакал на одной ножке по
шахматному узору плит, крестный путь -- но в обратном направлении, затем
наверх -- из среднего нефа на хоры, шестьдесят откашливаний, баховский
ферейн, который не пел, а скорее репетировал кашель; и когда я уже
исполнился надежды, что кашель Оскара переполз в трубы органа и даст о себе
знать лишь при исполнении воскресного хорала -- кашель раздавался в ризнице,
сразу после этого -- с кафедры и наконец затихал за алтарем, то есть за
спиной у спортсмена на кресте, исторгнув в кашле свою душу. Свершилось, --
кашлял мой кашель, а ведь на самом деле ничего не свершилось. Младенец Иисус
без стыда и совести держал у себя мои палочки, держал на розовом гипсе мою
жесть, держал, но не барабанил и не подтверждал мое право следовать за ним.
Оскар же предпочел бы иметь под тверждение в письменном виде, письменный
наказ следовать за Христом.
осмотре любых церквей -- пусть даже самых знаменитых соборов -- сразу, едва
ступив ногой на каменные плиты, даже и при отменном самочувствии,
разражаться длительным кашлем, который, в зависимости от стиля церкви,
высоты и ширины, предстает готическим либо романским, а то и вовсе барочным
и даже спустя много лет позволяет мне вос произвести на барабане Оскара мой
кашель в соборе то ли Ульма, то ли Шпейера. Но в те времена, когда жарким
августовским днем я подвергался могильно-холодному воздействию католицизма,
думать о туризме и о посещении церквей в дальних странах можно было, лишь
облачась в военную форму, участвуя в планомерном отступлении и, может быть,
даже записывая в неизменном дневничке: "Сегодня оставили Орвьето,
удивительнейший церковный фасад, съездить после войны вместе с Моникой и
осмотреть повнимательней".
удерживало. Правда, дома была Мария, но у Марии был Мацерат. Правда, дома
был мой сын Курт, но малыш с каждым днем становился все более несносным:
швырял мне песок в глаза, царапал меня так, что ломал ногти о мою отцовскую
плоть. Да и кулаки мне сынок показывал с такими побелевшими косточками, что
при одном только виде этой агрессивной двойни у меня текла кровь из носу.
Оскар с удивлением терпел, когда этот до сей поры безразличный ему человек
сажал его к себе на колени, прижимал, разглядывал, даже поцеловал однажды,
сам при этом растрогался и сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к
Марии:
и пусть все врачи нам говорят. Они просто так пишут. У них, верно, своих
детей нет.
газетные развороты талоны от продовольственных карточек, подняла взгляд:
Но если они говорят, что сегодня все так делают, я уж и не знаю, как оно
верней.
смерти бедной матушки и думать позабыло про музыку:
опустила.
ему получшеет. Дак ты сам видишь: ничего не получшело, его все гоняют, и
жить как все он не может, и помереть тоже нет.
висел над пианино и сумрачно взирал на сумрачного Гитлера?
столу, прямо по сырым липким газетным листам, затем велел Марии подать ему
письмо от директора заведения, прочитал раз, и другой, и третий, разорвал
письмо и разбросал клочки среди талонов на хлеб, талонов на жиры, талонов на
прочие продукты, талонов для транзитников, и для занятых в тяжелом
производстве, и еще среди талонов для будущих и для кормящих матерей. И
пусть даже Оскар благодаря Мацерату не попал в руки врачей, он с тех пор
представлял себе -- и представляет по сей день, едва на глаза ему попадется
Мария -- на редкость красивую, расположенную среди высокогорного приволья
клинику, а в этой клинике -- светлую, приветливую на современный лад
операционную, видит, как перед ее обитой дверью Мария с робкой, но
исполненной доверия улыбкой передает меня в руки врачей, которые точно так
же, вызывая доверие, улыбаются и прячут под своими белыми стерильными
халатами вызывающие доверие шприцы мгновенного действия. Итак, мир покинул
меня и лишь тень моей бедной матушки, что сковала пальцы Мацерату, когда он
уже собрался было подписать бумагу, присланную из министерства по охране
здоровья, не раз и не два воспрепятствовала тому, чтобы я, многократно
покинутый, покинул этот мир.
оставался голос, который едва ли мог предложить что-нибудь новенькое вам,
знающим мои победы над стеклом, и который тем из вас, кто любит
разнообразие, вполне мог наскучить, но для меня голос Оскара в дополнение к
барабану навсегда оставался немеркнущим подтверждением моего сущест вования,
ибо, покуда я резал пением стекло, я и существовал, покуда мое
целенаправленное дыхание отнимало дыхание у стекла, во мне еще сохранялась
жизнь.
выходя поздней порой из церкви Сердца Христова, я непременно резал
что-нибудь своим голосом. Я шел домой, я даже не искал ничего особенного, я
избирал целью плохо затемненное оконце какой-нибудь мансарды либо
выкрашенный в синий цвет и горящий в строгом соответствии с правилами
противовоздушной обороны фонарь. Всякий раз, побывав в церкви, я возвращался
другой дорогой. Однажды Оскар пошел к Мариенштрассе через Антон-Меллервег.
Другой раз он избрал Упхагенвег, вокруг Конрадовой гимназии, заставил
дребезжать ее застекленный портал и через рейхсколонию вышел к Макс-
Хальбеплац. Когда в один из последних августовских дней я слишком поздно
добрался до церкви и увидел закрытый портал, я решил сделать крюк больше
обычного, чтобы дать выход своей досаде. Я пробежал по Банхофштрассе, казня
по пути каждый третий фонарь, за Дворцом кино свернул направо, в Адольф-
Гитлер-штрассе, оставил по левую руку ряды окон в пехотных казармах, однако
сумел остудить свой пыл на приближающемся со стороны Оливы полупустом
трамвае, левую сторону которого я начисто лишил затемненных стекол.
заскрежетать, остановиться, заставил пассажиров выйти из него, выругаться и
снова войти, сам же искал для своей ярости какое-то подобие десерта, лакомый
кусочек в это столь скудное на лакомства время и остановил движение своих
шнурованных башмаков, лишь когда добрался до первых домов Лангфура и подле
столярной мастерской Беренда, в лунном свете, увидел перед широко


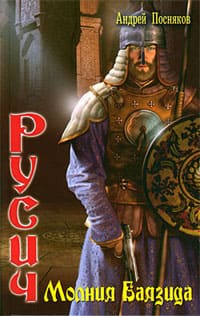
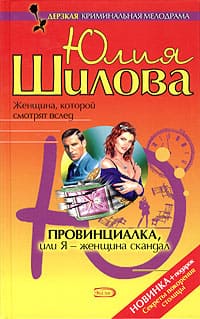
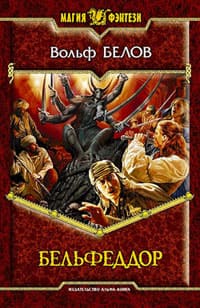

 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Русанов Владислав
Русанов Владислав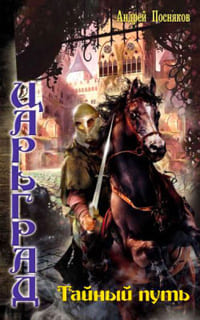 Посняков Андрей
Посняков Андрей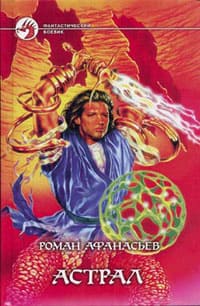 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман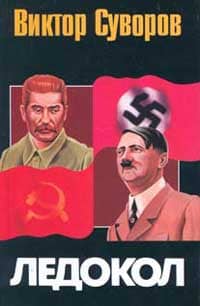 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия