кладбищенской стене и о чем-то болтали -- против ветра. Прибавьте к этому
самолеты и солнце, которое все больше наливалось багрянцем.
растерянно стоял между старым гранитом, между скрюченными соснами, между
вдовой Мацерата и Куртхеном, который швырял камнями в попугайчика.
не надо? Ты сирота. Значит, надо. С тех пор как нет больше на свете твоей
бедной матушки, ты сирота наполовину. Тебе уже тогда следовало принять
решение. Потом они неглубоко зарыли твоего предполагаемого отца Яна Бронски.
И ты стал предполагаемым круглым сиротой, и стоял здесь, на этом песке, имя
которому Заспе, и держал в руках чуть позеленевшую патронную гильзу. Шел
дождь, и "Юнкерс-52" заходил на посадку. Не тогда ли уже ясно прозвучало,
пусть не сквозь легкий шум дождя, пусть сквозь гул садящегося транспортного
самолета, "Надо или не надо?". Ты говорил себе: это всего лишь шум дождя и
всего лишь гул моторов, к этим монотонным звукам можно примыслить любой
текст. Ты хотел услышать это в более отчетливой форме, а не только как
догадку.
второго предполагаемого отца. Сколько тебе известно, предполагаемых отцов у
тебя больше нет. Так чего ради ты все жонглируешь и жонглируешь двумя
зелеными бутылками "надо" и "не надо"? Кого еще ты намерен спросить? Уж не
искривленные ли сосны, который и сами под большим вопросом?
буквами -- не то Матильда Кункель, не то Матильда Рункель. Еще я нашел --
надо или не надо? -- в песке между репейником и песчаным камышом -- надо --
три или четыре -- не на до -- ржавых рассыпающихся металлических венка,
примерно с тарелку величиной, которые в свое время -- надо, -- возможно,
изображали дубовые либо лавровые листья -- а может, все-таки не надо, --
покачал их на руке -- а вдруг надо, -- прицелился -- надо -- конец креста --
или не надо -- имел в длину -- надо -- сантиметра четыре -- нет, -- я
наметил сам себе расстояние в два метра -- надо -- и бросил -- не надо --
рядом -- надо ли -- слишком косо был врыт железный крест -- надо -- Матильда
Кункель, хотя, может, и Рункель -- надо, Кункель, надо, Рункель -- это был
шестой бросок, а я разрешил себе сделать семь, если шесть раз -- не надо,
бросил семь -- надо, накинул на крест -- надо -- Матильда с венком -- надо
-- лавры для фройляйн Кункель -- надо? -- спросил я у молодой фрау Рункель
-- да, отвечала Матильда; она умерла молодой, двадцати семи лет, а родилась
в шестьдесят восьмом. Мне же шел двадцать первый год, когда бросок удался с
седьмой попытки, когда то самое "надо -- не надо" я обратил, упростив, в
доказанное, увенчанное, целенаправленное, выигранное "надо!".
могильщикам, попугайчик громко закричал, роняя желто-голубые перья, потому
что Куртхен в него попал. Я спрашивал себя, над каким вопросом бился мой
сын, какой вопрос заставил его так долго швырять камнями в волнистого
попугайчика, пока последний бросок не дал ему ответ.
Хайланд очень спешил, но пришлось ему подождать, потому что Мария возносила
католическую молитву, а господин Файнгольд держал цилиндр перед грудью,
взгляд же устремил в Галицию. Вот и Куртхен подошел поближе. Возможно, после
удачного броска он принял какое-то решение и теперь по тем либо иным
причинам, но так же решительно, как и Оскар, приближался к могиле.
пользу чего-то или против чего-то? Принял ли он решение отныне признавать и
любить во мне своего единственного отца? Или решил именно сейчас, что для
жестного барабана время, пожалуй, упущено. Или его решение означало: смерть
моему предполагаемому отцу Оскару, который потому лишь убил моего
предполагаемого отца Мацерата пар тийным значком, что вообще не желал больше
никаких отцов? А вдруг он не мог выразить детскую приязнь, каковая
желательна между отцами и сыновьями, иначе как с помощью убийства?
гроб с Мацератом, с партийным значком в трахее у Мацерата, с полным зарядом
из русского автомата в животе у Мацерата, Оскар признался себе, что умертвил
Мацерата умышленно, ибо тот, судя по всему, был не только его, Оскара,
предполагаемый отец, но и настоящий, ибо ему, Оскару, надоело всю жизнь
таскать за собой какого-то отца.
подобрал эту конфетку с бетонного пола. Расстегнута она была только в моей
сжатой ладони. И я передал эту неудобную, колючую конфету Мацерату, чтобы
они нашли у него орден, чтобы он положил партию себе на язык, чтобы он
подавился -- партией, мной, своим сыном, ибо пора было положить этому конец.
неумело, но старательно. А я Ма-церата никогда не любил. Порой он был мне
симпатичен. Он заботился обо мне больше как повар, чем как отец. Повар он
был отменный. И если сегодня мне порой недостает Мацерата, все дело в его
кенигсбергских клецках, в свиных почках под кислым соусом, в его карпе с
редькой и сливками, в таких его блюдах, как суп из угрей с зеленью, свиная
корейка с кислой капустой и незабываемое воскресное жаркое, которое я до сих
пор ощущаю на языке и между зубами. Но ему, кто обращал чувства в супы, люди
забыли дать с собой на тот свет половник. Забыли дать колоду карт для ската.
Готовил он лучше, чем играл в скат, но играл он все же лучше, чем Ян
Бронски, и почти так же хорошо, как моя бедная матушка. В этом было его
богатство, в этом была его трагедия. И еще я так и не смог простить ему
Марию, хотя он хорошо с ней обращался, никогда не бил и по большей части
уступал, если она заводила свару. Вот и меня он не передал в руки
министерства здравоохранения, а письмо подпи сал лишь после того, как почту
уже перестали разносить. Когда я родился при свете электрических ламп, он
определил меня в торговлю. Чтобы не стоять за прилавком, Оскар более
семнадцати лет простоял примерно за сотней блестящих барабанов, покрытых
белым и красным лаком. Теперь вот Мацерат лежал и стоять больше не мог.
Старый Хайланд засыпал его землей, куря при этом Мацератовы сигареты
"Дерби". Теперь во владение лавкой должен был вступить Оскар, но тем
временем вступил господин Файнгольд со своим многочисленным незримым
семейством. Остатки получил я: Марию, Куртхен и ответственность за них
обоих.
пребывал в Галиции либо был занят решением заковыристых арифметических
задач. Куртхен, хоть и устал, непрерывно работал лопаткой. На кладбищенской
стене сидели двое русских и болтали. Хайланд равномерно и хмуро бросал песок
кладбища Заспе на доски от маргаринных ящиков. Оскар мог еще прочесть три
буквы слова "Вителло", потом снял с шеи барабан, но не произнес в очередной
раз "надо или не надо?", а произнес "Да будет так" и бросил барабан туда,
где на гробе уже лежало достаточно песка, чтобы грохота было поменьше.
Палочки я отправил вслед за барабаном, и они воткнулись в песок. Это был мой
барабан периода чистильщиков. Родом из фронтового театра Бебры. Бебра
подарил мне много барабанов. Как бы оценил наставник мое теперешнее
поведение? По этой жестянке бил Иисус и коренастый, грубо сколоченный
русский. Больше ничего такого с ней не приключилось, но, когда лопата песка
ударила по ее поверхности, она подала голос. После второй лопаты она тоже
подала голос. А уж после третьей она больше не издала ни звука, лишь
выставила напоказ немного белого лака, пока песок не сровнял и это место с
другим песком, со все большим количеством песка, он все множился и множился,
песок на моем барабане, куча росла, и я тоже начал расти, что дало о себе
знать обильным кровотечением из носа.
господина Файнгольда из Галиции, оторвал Марию от молитвы, и даже русских
парней, которые по-прежнему сидели на стене и болтали, он заставил быстро и
испуганно вскинуть глаза.
затылку иссиня-черное железо. Холод оказал свое действие, кровь немного
унялась, старый Хайланд снова взялся за лопату, рядом с могилой уже почти не
было песка, а тут кровь и совсем перестала течь, но рост не завершился и
заявил о себе каким-то скрипом, треском и шорохом у меня внутри.
трухлявый деревянный крест без надписи и воткнул его в свежий холмик
примерно между головой Мацерата и моим погребенным барабаном.
руки, понес его, увлек остальных, даже и русских с автоматами, прочь, через
заваленную стену, вдоль по танковым колеям к тележке, оставленной на
трамвайных путях, перекрытых танком. Я глядел через плечо назад, на кладбище
Заспе, Мария несла клетку с волнистым попугайчиком, господин Файн-гольд нес
инструмент, Куртхен не нес ничего, оба русских несли слишком маленькие шапки
и слишком большие автоматы, а береговые сосны корчились и гнулись.
головой летели самолеты, со стороны Хелы, в сторону Хелы. Лео очень старался
не запачкать свои белые перчатки об обгорелый танк Т-34. Солнце вместе с
набухшими облачками падало на Турм-берг -- гору возле Сопота. Дурачок Лео
соскользнул с танка и держался очень прямо.
им никак не совладать.
проинформировал господина Файн-гольда:
соболезнование и пожать ручку.
всем присутствующим обычное соболезнование, спросил:


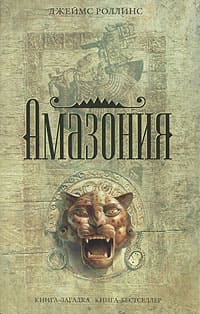
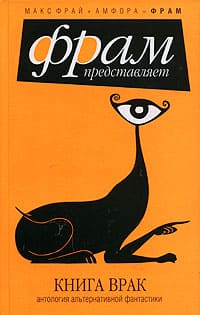
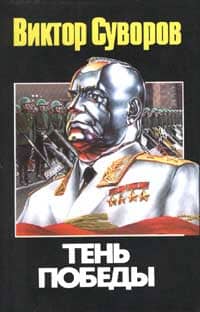

 Никитин Юрий
Никитин Юрий Зыков Виталий
Зыков Виталий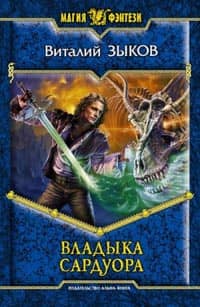 Зыков Виталий
Зыков Виталий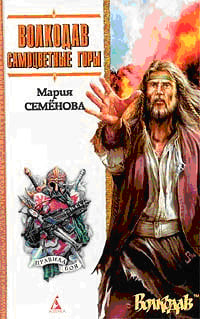 Семенова Мария
Семенова Мария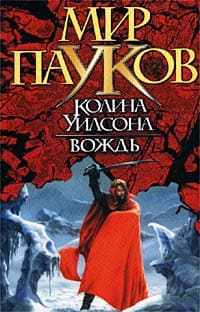 Прозоров Александр
Прозоров Александр Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк