который теперь называют по-старому Фирога, она тоже ему поведала. А Биссау
теперь, как до войны, Бизево. А Элерса, который был в Рымкау
ортсбауэрнфюрером и очень работящим человеком -- и еще был женат на жене
сына ее брата, короче говоря, на Яновой Хедвиг, того самого Яна, что остался
на почте, -- так вот этого Элерса сельские рабочие повесили прямо перед его
конторой. Они и Хедвиг чуть не повесили, потому как она, жена польского
героя, вышла за ортсбауэрнфюрера, ну и потому еще, что Стeфана произвели в
лейтенанты, а Марга, так та и вовсе состояла в СНД.
потому как Стефан погиб на Ледовитом океане, там, наверху. Но вот Маргу они
хотели захапать и отправить в лагерь. Только тут Вин-цент наконец-то открыл
рот и заговорил, да так, как в жизни не говорил. Теперь Хедвиг с Маргой
живут у нас и помогают в поле. Только сам-то Винцент от говоренья до того
повредился, что навряд ли он долго протянет. Ну а сама бабка, у той тоже и
сердце, и вообще всюду, и голова, потому как один дурень по ней стучал,
думал, дак как же не постучать.
меня по моей все растущей голове, и в конце поделилась своими наблюдениями:
Но вы теперь переберетесь туда, где получше будет, а старая бабка, та
останется. Потому как с кашубами нельзя куда ни то переезжать, они должны
оставаться там, где они есть, и подставлять головку, чтоб другие могли по
ней колотить, потому как наш брат и поляк не настоящий, и немец тоже не
настоящий -- а уж если кто и вовсе из кашубов, этого и немцам мало, и
полякам мало. Им подавай все точно!
дезинфекционные средства под те четыре юбки, которые, несмотря на все
чрезвычайные события, военные, политические и всемирно-исторические, не
утратили своей картофельной окраски.
минуту задержаться, поскольку он хочет познакомить ее со своей женой Любой и
прочими членами семьи, а жена Люба так и не вышла, Анна Коляйчек ему
сказала:
ты сюда да помогла своей старой матери белье выкручивать. А она не приходит,
все равно как ваша Люба не приходит. А Винцент, ну который мой брат, он хоть
и больной, встает среди ночи, когда темно, идет к дверям и будит соседей,
потому как громко зовет своего сына, Яна зовет, а Ян как был на почте, так и
остался там.
постели: "Бабка! Бабка!" -- то есть "бабушка, бабушка!". И она повернулась,
уже приподняла малость свои юбки, словно хотела там меня и оставить, и
забрать с собой, но, верно, вспомнила про бутылки с керосином, и про
искусственный мед, и про дезинфекционные средства, которые все вместе уже
заняли мое место, -- и ушла, ушла без меня, ушла без Оскара, просто ушла.
Мария ничего не говорила, но я мог заметить, что и она прощается с мебелью,
лавкой, всем доходным домом, с могилами по обе стороны Гин-денбургаллее и с
холмиком на кладбище в Заспе.
возле моей кровати, у пианино бедной моей матушки, левой рукой держала свою
губную гармошку, а правой пыталась одним пальцем наигрывать сопровождение к
своей песенке.
едва она опускала руку с гармошкой и собиралась захлопнуть крышку пианино,
просил поиграть еще немного.
Господин Файнгольд все реже призывал свою жену Любу, и одним летним вечером,
полным мух и жужжания, убедившись, что Любы нет как нет, сделал Марии
предложение. Он готов был взять и ее, и обоих детей, включая больного
Оскара. Он предлагал ей квартиру и долю в лавке.
случайно возникшая красота за это время окрепла, чтобы не сказать
затвердела. В последние месяцы войны и первые послевоенные она осталась без
перманента, за который раньше платил Мацерат, и хоть она больше не носила
косы, как было в мое время, ее длинные волосы, спадая на плечи, давали
возмож ность увидеть в ней чуть слишком серьезную, может, даже
ожесточившуюся девушку -- и эта самая девушка ответила "нет", отказала
господину Файнгольду. На бывшем нашем ковре стояла Мария, прижимала
Курт-хена левой рукой, указывала большим пальцем правой на кафельную печку,
и господин Файнгольд, равно как и Оскар, услышал ее слова:
Рейнланд, к моей сестре Густе. Она там за оберкельнером по ресторанной
части, звать его Кестер, и пока мы поживем у него все трое.
наши документы. Господин Файнгольд больше ничего не говорил, он закрыл
торговлю, покуда Мария укладывала вещи, сидел в темноте на прилавке возле
весов и даже не черпал ложкой искусственный мед. Лишь когда Мария хотела с
ним по прощаться, он соскользнул с прилавка, взял велосипед с прицепом и
предложил проводить нас до вокзала.
человека -- были погружены в двухколесный прицеп на резиновом ходу. Господин
Файнгольд толкал велосипед, Мария держала Куртхе-на за руку, и когда на углу
Эльзенштрассе мы сворачивали налево, еще раз оглянулись. А вот я больше не
мог оглянуться на Лабесвег, потому что всякий поворот головы причинял мне
боль. Вот почему голова Оскара сохраняла неизменное положение. Лишь не
утратившими подвижность глазами я послал привет Мариенш-трассе, Штрисбаху,
Кляйнхаммерпарку, все еще сочащемуся мерзкими каплями подземному переходу к
Бан- хофштрассе, моей уцелевшей церкви Сердца Христова и вокзалу пригорода
Лангфур, который теперь назывался Вжешч -- почти непроизносимое название.
Людей было много, детей -- чересчур много. Багаж проверили и взвесили.
Солдаты забросили в каждый товарный вагон по охапке соломы. Музыка не
играла, но и дождя тоже не было. А было облачно с прояснениями, и дул
восточный ветер.
редкими рыжеватыми летящими волосами стоял внизу, на путях; когда мощным
рывком дал знать о своем прибытии паровоз, он подошел поближе, протянул
Марии пакетик маргарина и два пакетика искусственного меда, а когда команды
на поль ском языке, когда крик и плач возвестили отправление, он
присовокупил к дорожному провианту пакет с дезинфицирующими средствами --
лизол важней, чем жизнь, -- и мы тронулись, оставили позади господина
Файнгольда, он же по всем правилам -- словом, как оно и положено при
отправлении поездов, -- ста новился со своими летящими рыжеватыми волосами
все меньше и меньше, потом виделся лишь как машущая рука, потом и вовсе
пропал из виду.
РАСТИ В ТОВАРНОМ ВАГОНЕ
голову на подушки. Это заставляет меня ощущать свои суставы, голеностоп и
колено, это превращает меня в скрипуна, что иными словами означает: Оскар
вынужден скрипеть зубами, чтобы заглушить таким образом скрип собственных
суставов. Я разглядываю свои десять пальцев и должен честно признать: они
распухли. Последняя попытка на барабане подтверждает: пальцы у Оскара не
просто распухли, в настоящее время они вообще не пригодны для человека его
профессии -- они не способны удержать палочки.
Бруно, чтоб он сделал мне холодный компресс. И потом, с холодными
компрессами на руках, ногах, коленях, с мокрым платком на лбу мне придется
вооружить моего санитара Бруно карандашом и бумагой, ибо мою авторучку я не
люблю давать чужим.
пересказ достойным той поездки в товарном вагоне, начавшейся двенадцатого
июня одна тысяча девятьсот сорок пятого года? Бруно сидит за столиком под
картинкой с анемонами. Вот он поворачивает голову, демонстрируя мне ту ее
сторону, которую именуют лицом, а сам глазами сказочного зверя глядит мимо
меня, слева или справа. Подняв карандаш над тонкими с кислым выражением
губами, он изображает ожидание. Но если даже допустить, что он действительно
ждет от меня слова, ждет знака, чтобы приступить к своему изложению, --
мысли его все равно вьются вокруг макраме. Он будет вывязывать узлы из
бечевок, тогда как задача Оскара, не жалея слов, распутать мою запутанную
историю. Итак, Бруно пишет:
бездетен, служу санитаром в частном отделении данного специализированного
лечебного заведения. Господин Мацерат, который более года назад был
госпитализирован, считается моим пациентом. У меня есть и другие пациенты,
но сейчас речь не о них. Господин Мацерат -- самый безобидный из моих
пациентов. Он никогда не выходил из себя до такой степени, чтобы мне
вызывать других санитаров. Правда, он несколько больше, чем следует, пишет и
барабанит. Чтобы пощадить свои перетруженные пальцы, он попросил меня
сегодня писать вместо него и не за ниматься плетением. Тем не менее я
засунул в карман немного бечевки, и, покуда он рассказывает, я начну с
помощью нижних конечностей новую фигуру, которую, согласно теме его
рассказа, назову "Беженец с востока". Это будет не первая фигура, которую я
создам на основе рассказов моего пациента. До сего времени я уже вывязал из
бечевки его бабушку, которую назвал: "Яблоко в четырехслойной одежке",
выплел его дедушку, плотогона, назвав его, может быть, чересчур смело --
"Колумб"; с помощью- моей бечевки его бедная матушка превратилась в






 Шилова Юлия
Шилова Юлия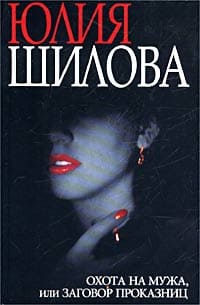 Шилова Юлия
Шилова Юлия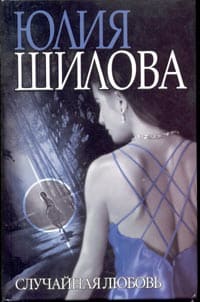 Шилова Юлия
Шилова Юлия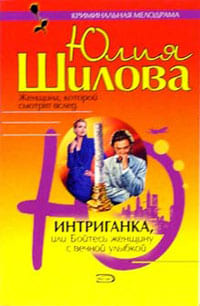 Шилова Юлия
Шилова Юлия Контровский Владимир
Контровский Владимир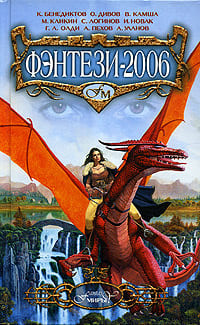 Пехов Алексей
Пехов Алексей