лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, тысяча девятьсот двадцатого года
рождения; потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки,
доверчиво и смущенно улыбающейся в объектив; на обороте косым неокрепшим
почерком: "Дорогому и любимому Андрюше от навечно твоей Кати. 11 апреля 1940
года, гор. Арзамас".
неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о
том, кто умер сейчас.
проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно:
большие потери. А! - с горькой болью произнес он и засунул документы
власовца в полевую сумку. - Торчит перед глазами! Придется в штаб полка
отдать. Ну, пошли, Ермаков!
выражение:
распределю... А ты останься. За меня. По высоте снайперы со всех сторон
лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе... Двоих укокошат -
чепуха получится.
заботливую нежность, и необычное это выражение огрубевшего в матерщине, в
вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова.
угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа
скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее; изредка,
перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади
высоты жарко пылала окраина, огонь сплелся над улицами и плетнями, дым
упирался в низкие, грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки
били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий
звон осколков бритвенно прорезывал воздух.
курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не
понимающие, зачем они здесь. Только Жорка Витьковский, с распухшим носом,
улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал Скляру новый
финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно:
крепкий, бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну,
думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то... Да... А сзади разведчик ка-ак
ляпнет ему по шее...
любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр
ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни
одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорка пять минут назад,
не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью
из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорка не мог сделать иначе, и хотя
знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки
жутью веяло от того, что произошло на глазах: стоило нажать спуск - и
человека нет, будто он и на свет не рождался.
прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально
грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он
был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах; изредка
на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал
глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных
оружейной смазкой пальцах.
расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал
дрожащими губами:
табак солдатам отдавал. До-об-рый был...
хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый, звенящий голос команд,
вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле -
погон да полевая сумка, и, ища виновников этой смерти, внезапно гневно
оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около
коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым
бешенством он протянул к их крепким, крестьянским лицам маленький кулачок и
закричал в неистовстве:
бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели. Извозчики!
потупя глаза. - Мы разве виноваты...
Прекратить! Почему до сих пор Вороной здесь? Отвести в землянку для раненых.
Остальные за мной!
высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, в
сдвинутой набок фуражке. - Будем воевать в пехоте! Не привыкли? Ничего! Ко
всему нужно привыкать. - И, выругавшись, пошутил: - Ну и ездовые у тебя,
Ермаков! Как тараканы беременные! Еще с кнутами пришли!
когда, осыпанные землей разрывов, пробивались назад, переступая через тела
убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков
впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет.
восьмистах от высоты, и не двигались, только медленно поворачивали башни,
почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов.
лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и
ползли, стреляя из автоматов, люди, - именно это говорило о том, что
положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь
Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова,
решительно шагавшего по стреляным гильзам, - Орлов то и дело покрикивал с
азартной шутливостью:
Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа. Беречь!
хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную
смерть всякое живое дыхание.
Орлова, один Жорка весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые,
небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и
было в этих взглядах невысказанное: "Вот держимся! А как дальше?"
маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти
в невыносимом положении разгрома, - как ни странно, это пространство почти
всегда занимает местечко в душе солдата, - ожидающие взгляды людей,
скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую
деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах
мелькало выражение тоски.
знают? - с подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком
расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову.
ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул:
землю с пилотки. - Как же дивизия-то?.. Или впустую все?
Родину не защищают впустую! - вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков
и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. - Скоро будет легче. Легче! Осталось
немного терпеть! Дивизия будет здесь, в Ново-Михайловке! Немного осталось!
и опять злым рывком продернул ленту. - Что-то вроде артподготовки не
слыхать...
Витьковский! Еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление
час назад! - неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что
он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые,
немигающие Жоркины глаза: - Бегом сообщить всем! Всем!..
следом, бледнея, крикнул: "Назад!" - однако Ермаков крепко сжал его каменно
напрягшуюся руку, укоряюще остановил: "Подожди!"
то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо
страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не
испытывал душевных мучений и угрызений совести: эта ложь должна была стать
правдой через час, через два, через десять часов, той правдой, которая
помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон.
что это такое?
умирать страшно, Орлов. И тебе... и мне... Ради жизни этого же пулеметчика
сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай.






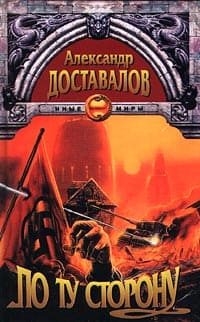 Доставалов Александр
Доставалов Александр Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия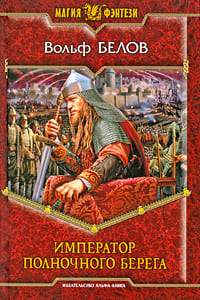 Белов Вольф
Белов Вольф Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман