восторженно-возбужденно повторил: "Десять сдуло, товарищ старший лейтенант!"
А где был Цыгичко? Кажется, вместе с Шурой он носил ящики из ниши, раз упал,
задев ногой за станину, и засмеялся глупо и жалко. Сыпал дождь, огневая
позиция размякла, как каша... Что было еще?
кустах и на бруствере. Срезанные ветки хлестнули по лицу горячим кнутом. И
был открыт ответный огонь по танкам. Мелькали перед ним прижмуренные,
ослепленные глаза Елютина и судорожно вцепившиеся в снаряд огромные пальцы
Бобкова, остальных Кондратьев больше не видел. Началась дуэль между орудиями
и танками. Вскоре его сознание прорезал крик, нет, не крик - радостный рев
Бобкова: "Горят, горят!"
поднялся без шапки, с окровавленной скулой Елютин, пошатываясь, нащупал
левый рукав, пытаясь отогнуть его, словно на часы хотел посмотреть, сделал
шаг за щит орудия и упал животом на бруствер.
плыл в ней, как сейчас под этими звездами. Он очнулся от свинцовых капель
дождя, от голоса, хрипло кричавшего непонятное и страшное: "Мы погибли
здесь, выполняя приказ. Пришлите плот. За Кондратьева остался я, младший
лейтенант Сухоплюев. У нас нет снарядов. Мы все погибли здесь, выполняя
приказ!.."
он убит?" Сухоплюев лежал в бурой жиже, обнимая намертво телефонный аппарат,
виском вмяв в грязь разбитую эбонитовую трубку. Как оказался телефонный
аппарат близ станин орудия, при каких обстоятельствах погиб Сухоплюев, он не
вспомнил, голова, скованная болью, была налита огнем. Скоро Цыгичко, Бобков
и Шура понесли его куда-то вниз, и там, внизу, снова бездонная мгла закачала
его на мягких волнах забытья.
силуэт Шуриной пилотки, а в ушах все возникал хрипло-незнакомый голос
Сухоплюева: "Мы погибли здесь, выполняя приказ...".
однообразностью повизгивали уключины, и не было слышно ни одного голоса на
плоту.
ночи.
свадьбы заживет.
зашуршал соломой, и оттуда дошел шепот:
разнесло. Если б рукой не придержал, брызги б только полетели. А тогда ищи
ветра в поле!
густой, сдержанный. Но было ему удивительно и противоестественно думать, что
это обыкновенный человеческий смех, признак будничной жизни, живого дыхания.
Среди звездной бездны ночи едва заметные фигуры проступали у весел, и по
смеху Кондратьев узнал их - это были Бобков и старшина Цыгичко. И он
невольно спросил свое, навязчивое, спросил расслабленным, дрогнувшим
голосом:
ответил за двоих весело:
в здравии!
любовью к этим людям, родственно и крепко связанным с ним судьбою и кровью.
- Вот оно, простое и великое, что есть на войне. Вот она, жизнь! Остались
прекрасное звездное небо, осенний студеный воздух, дыхание Шуры, соленые
остроты Деревянко, смех Бобкова и Цыгичко. И это движение под Млечным
туманно шевелящимся Путем... И я... я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но
люблю все, что осталось, люблю... Ведь человек рождается для любви, а не для
ненависти!"
синими длинными лучами, убаюкивал мирный скрип бревен, и, как сквозь воду,
слышал Кондратьев отдаляющийся зыбкий шепот Шуры, шорох соломы, легкие
стоны, и уснул он, разом провалился в горячую тьму, но даже во сне не
покидала, тревожила его расплывчатая мысль о чем-то несделанном,
недодуманном: "Разве они не заслужили любви?"
голосов, топота сапог по бревнам и долетевшей команды:
заслоняли похолодевшее небо верхушки деревьев.
взволнованно наклоняя озабоченное, землистого цвета лицо, говорил старшина
Цыгичко и, пахнущий порохом и ветром, елозил на коленях подле Кондратьева.
Бобков, взглядывая через плечо старшины самолюбивыми глазами. - Дай-ка я...
Бревна скользкие. Разъедутся ноги - и ляпнешься жабой! Уйди-ка!
дойду... ноги у меня здоровые...
можно? Я легонько вас. Как пушинку доставлю.
Бобковым, непрочно встал на ноги, покачнулся от тошнотворно прилившей к
вискам крови.
внизу, заляпанная грязью; мокрая, обданная росой, дымилась спина лошади,
дремлющей в сумраке шумящих деревьев.
новеньких плащ-палатках, в чистых обмотках, в касках, как если бы ни разу
еще не были в бою.
усмехаясь, скользящим жестом локтей все поддергивал галифе, не державшееся
на бинтах, оглядывался на строго озабоченную Шуру, которая торопила его
садиться в повозку, объяснял: - Да на что же я сяду, солдат милосердия?
Выходит, садись, на чем стоишь.
похудевшее, выделяясь огромными глазами, лицо Лузанчикова, до сих пор не
верившего в гибель Елютина. Он, всхлипывая иногда, как сквозь пелену,
смотрел на немецкие часики, зажатые в потной ладони, перед самым боем
починенные и подаренные ему Елютиным, они все жили и бились, всё отсчитывали
и отсчитывали секунды, будто сообщена была им вечная жизнь.
оттого что не в силах был двигаться сам, стало неловко ему, и неловко стало
оттого, что голова и левая рука перебинтованы, оттого, что незнакомые
пехотинцы глядели на него с выражением молчаливого сочувственного понимания.
ездовых:
до госпиталя?
начищенных сапог, браво развернутых плеч, по-строевому наглухо застегнутых
пуговиц - это сковывало его, сугубо гражданского человека, привыкшего к
широким пиджакам и до войны никогда не любившего галстуков.
холодные пуговицы, в то же время Цыгичко начал проворно оправлять на нем
шинель и, раздувая ноздри, успокоительно заговорил:
лейтенант. А вернетесь из госпиталя - мы ее по вас сделаем. Укоротим. И -
как влитую... Як же иначе?
старшины, и со стыдом подумал: как это он забыл отдать ее раньше?
поменяемся...
Никак нет! Не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь
шинель.



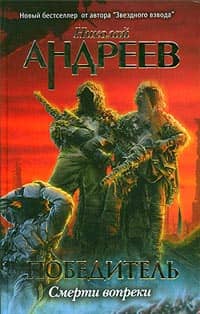
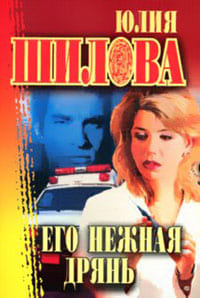

 Корнев Павел
Корнев Павел Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Беляев Александр
Беляев Александр Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Николаев Андрей
Николаев Андрей