сентиментальности. О боже, этот табак уничтожил все двадцать тысяч
сигарет, которые выкурил здесь мой сын.
великую честь; он сидел, развалясь в кресле сына, слишком для него
просторном; а она, подложив старику под спину подушку, слушала его,
занятая самым безобидным делом, какое только можно себе представить, -
наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого,
красного, синего Хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в
правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильгенауэль, Глудум и
Блессенфельд. Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался
блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет.
сигара, милочка. Почему мне пришлось так долго ждать, до самого моего
восьмидесятилетия?.. Ну вот еще, чего вы так разволновались, конечно же,
мне сегодня стукнуло восемьдесят... ах, так, значит, не вы послали мне
цветы по поручению сына? Хорошо, спасибо, поговорим о моем рождении потом,
ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшний праздник,
приходите вечером в кафе "Кроне?"... но скажите, милочка Леонора, почему
за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю
в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигары? Разве я скряга?
Я никогда не был скупердяем, вы же знаете. В молодости я курил
десятипфенниговые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше, -
двадцатипфенниговые, а затем несколько десятков лет -
шестидесятипфенниговые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые
расхаживают по улице, держа в зубах такую штуковину за четыре марки,
заходят в конторы и снова уходят с таким видом, будто они сосут грошовую
сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в
три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю, и оставляют после себя
такое благоухание, что я, старик, прямо столбенею, а потом, словно пес,
ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы? Что? Однокашник Роберта?
Советник министра... Заместитель министра... начальник отдела в
министерстве или, может, даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что?
Армия? Вооружение?
старик погрузился в воспоминания о первом, третьем или, может быть, шестом
десятилетии своей жизни - он хоронил кого-то из своих детей. Но кого?
Иоганну или Генриха? На чей белый гроб сыпал он комья земли, на чьей
могиле разбрасывал цветы? Слезы выступили у него на глазах, - были то
слезы 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он
стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели
Отто? А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за
которыми исчезла его жена? И снова на глазах старика показались слезы, меж
тем как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма, - эти слезы
были пролиты в 1902 году, он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради
которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача; веревки
заскрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел: "Куда улетела
ласточка?". Щебечущие детские голоса вторглись в эту безукоризненно
обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им: то
октябрьское утро 1902 года казалось теперь старику Фемелю единственной
реальностью: дымка над низовьем Рейна, клочья тумана, сплетаясь в ленты,
словно приплясывая, неслись над свекловичными полями, вороны в ивняке
каркали, как масленичные трещотки, - а в это время Леонора проводила
красным Хейсом по мокрой губке. В тот день, за тридцать лет до ее
рождения, деревенские ребятишки пели "Куда улетела ласточка?". Теперь она
проводила по губке зеленым Хейсом... Внимание! Письма к Хохбрету идут по
местному тарифу.
удовольствием сбегала бы в цветочный магазин, чтобы купить ему красивый
букет цветов, но она боялась оставить его одного; он протянул руку, и она
осторожно подвинула к нему пепельницу; тогда он взял сигару, сунул ее в
рот, взглянул на Леонору и тихо сказал:
уводил ее в "мастерскую своей юности" в доме на противоположной стороне
улицы, над типографией. После обеда она должна была приводить в порядок
его запущенные канцелярские книги; она разбирала документы, в которых
рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще
до того, как она научилась писать, - вклады были вычислены в английских
фунтах, а капиталовложения - в долларах; она просматривала акции плантаций
в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из
текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых; читала завещания - в
них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет.
"И пусть право пользования моими усадьбами "Штелингерс-Гротте" и
"Герлингерс-Штуль" будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в
нем я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего
живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего
землевладельца..."
самом месте я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня,
когда должен был уехать в армию; я диктовал, а мой сын спал наверху; на
следующее утро он еще проводил меня к поезду и поцеловал в щеку - о, губы
семилетнего ребенка, - но никто, Леонора, никто не принимал моих подарков;
все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и
доходы от домов. Мне не дано было дарить, зато жене моей это было дано, ее
подарки шли на пользу; и по ночам, лежа возле нее, я слышал, как она
бормочет долго и нежно - казалось, это журчит ручеек, - бормочет целыми
часами: _зачемзачемзачем_?..
инженерных войск; тайный советник Генрих Фемель приехал во внеочередной
отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына; белый гробик опустили в
семейный склеп Кильбов - темная сырая каменная кладка и яркие, как
солнечные лучи, золотые цифры "1917", дата смерти. Роберт, в черном
бархатном костюмчике, ожидал их в карете...
прежде чем наклеить ее на письмо к Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо
храпели лошади, Роберту Фемелю, двух лет от роду, разрешили подержать
вожжи; вожжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая
позолота на цифре "1917" сверкала ярче солнца...
у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до
одиннадцати в "Принце Генрихе"? Тогда у ворот кладбища он с таким
интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он
занимается там, в отеле? Скажите мне, Леонора!
ответила:
откинулся на спинку кресла.
ваши послеобеденные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе обедали, а
с двух до четырех или до пяти, если вас это устроит, вы помогали бы мне
наводить порядок у меня в мастерской наверху. Как вы, милочка, к этому
отнесетесь?
на конверт, адресованный Шриту: почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а
потом его проштемпелюют - "6 сентября 1958 года, 13 часов". Старик,
сидевший перед ней, вернулся теперь в свой восьмой десяток и вступил в
девятый.
обнаружить в старике сходство с сыном; только подчеркнутая вежливость была
общей фамильной чертой Фемелей, но у старика она проявлялась в церемонной
обходительности; в его учтивости старинного склада было что-то величавое,
она не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя
нарочито сухо, только блеск в серых глазах порой наводил на мысль, что и
он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик - тот
действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда
говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица; было заметно,
что костюм у старика далеко не новый, галстук всегда съезжал набок, пальцы
были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки от ластика, из
жилетного кармана торчали карандаши - жесткие и мягкие, а иногда он
вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем
что-нибудь - ангела или агнца божьего, дерево или силуэт спешащего куда-то
прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными; он
попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала
себя счастливой - наконец-то она включит электрический кофейник не только
для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла, -
варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы, в определенной
очередности: сперва о жизни людей в задней половине дома, а потом о
смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье
Кильб, здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь,
поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников;
казалось, в воздухе сумрачных покоев на задней половине дома еще носится
что-то от строгих молитв юношей, ставших прелатами, от мрачных пороков
девственниц из рода Кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков - в
тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка


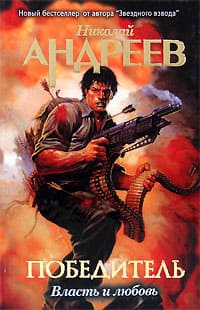


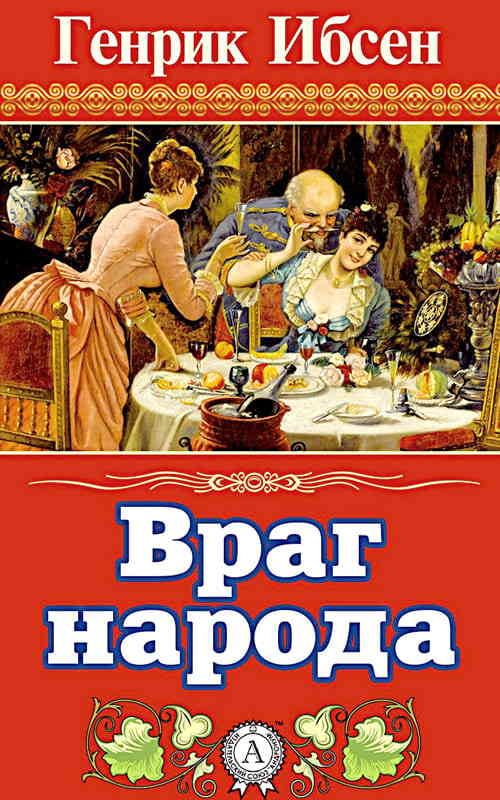
 Суворов Виктор
Суворов Виктор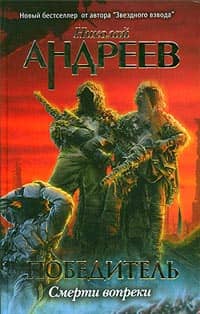 Андреев Николай
Андреев Николай Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена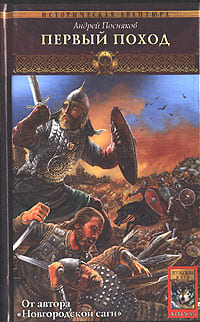 Посняков Андрей
Посняков Андрей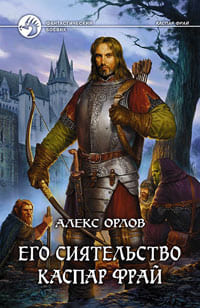 Орлов Алекс
Орлов Алекс