награжденного эволюцией голосовым аппаратом. С тех пор он начал подмечать
проступающее в моменты сильной боли, самозабвенной ярости, в некоторых
бессознательных состояниях необыкновенное сходство движений человека и
насекомого. И актеры его от постановки к постановке все более походили на
палочников или богомолов -- то пожирающих друг друга, то стимулированных
электротоком. Однако выговорить до конца все, что хотел выговорить (не
словами, конечно, -- какие уж тут слова!), он полагал возможным, только
полностью подчинив постановку компьютеру, всеохватной программе, которую
давно уже сочинял -- благо и в своей науке соприкасался с математикой и
языками -- и отлаживал в присутственные дни у себя в лаборатории. Но,
вынужденный ограничиться здесь лишь светом, звуком и кое-какой машинерией,
жаловался вроде бы в шутку, однако с нешуточной в тоне досадой, на
несостоятельность европейской науки, так и не определившей точку в мозгу,
куда следует вживлять управляющий электрод.
истинно русский, он любил давать их в жутких каких-нибудь подвалах с
трубами, муфтами и качающимися на проводах тусклыми лампами в жестяных
плафонах; часто казалось, что стоит отступить на три метра от того, что было
в этот раз сценой и зрительным залом, -- и наткнешься на крысиный выгон, а
то и на пригревшегося возле централи жмурика. Однако, уже в обход традиции,
он не хотел, чтобы зрителей непременно набивалась толпа, и приглашал обычно
не больше десяти человек, объясняя, что таково максимальное число, при
котором еще возможно создать некий общий кокон, замкнутое пространство:
геометрическое -- подвальной секции или, в смягченном варианте, наглухо
задрапированной черным институтской аудитории, световое -- ртутного
мертвенного света от специальных фонарей и акустическое -- умопомрачительных
шумовых фонограмм. Допущенные внутрь всего этого могли считать себя
избранными. Я подтрунивал, но в глубине души мне льстило, что мое
присутствие подразумевается всегда.
всего в двух кварталах от Невского, стоял полуразрушенный дом. Его стены и
сохранившиеся кое-где перекрытия служили ночлегом лицам уголовного вида
(довольно, впрочем, толерантным), местным шировым и тем, кто, подобно мне,
приезжал в колыбель революции без денег, без ясной цели и не имел здесь
родственников или друзей, способных предоставить условия более
цивилизованные. Соблюдалась молчаливая договоренность гадить только в
определенном месте внутреннего двора и не лезть друг другу в душу. Почему-то
там никогда не появлялась милиция, хотя отделение помещалось в переулке
неподалеку. Наверное, они видели какую-то оперативную выгоду в том, чтобы
под боком процветала такая малина. Первую ночь я провел в одиночестве в
бывшей детской (судя по гномам и зайчикам на остатках ярких обоев), где
нашел топчан из деревянных ящиков, покрытый драным тюфяком, половину свечи и
кулек с коноплей -- правда, совсем не забористой. Было довольно уютно, и
однажды в окно даже залетел нетопырь. Так что сначала я расстроился и
обозлился, когда, вернувшись сюда на следующий вечер, обнаружил на топчане,
который уже считал своим, человека с книжкой, дожигающего свечной огарок.
Однако он с первых слов сумел расположить меня к себе. Его багаж составляли
спальный мешок и второй том Николая Кузанского из "Философского наследия".
Мой -- зубная щетка и тюбик пасты. Имело смысл объединить. Днем мы
расставались -- у нас были разные интересы: меня тянуло в Эрмитаж, Музей
флота или Царское, его -- в нонконформистские галереи и набираться опыта на
репетициях экспериментальных студий (чтобы потом разочарованно костерить их
на чем стоит свет -- за узость мышления). К тому же, будучи весьма
ограничены в средствах -- если нашу тогдашнюю наличность вообще правомерно
называть средствами, -- мы избегали, таким образом, положений, когда
придется платить за другого: не предложить, если возникнет ситуация, не
позволила бы врожденная интеллигентность. Белыми же ночами устраивались в
проеме арочного окна и обсуждали "Апологию ученого незнания" или погружались
в мировоззренческие споры. Не наблюдали часов и порой совсем теряли
ориентацию. Проснувшись, направлялись в пельменную за углом драить зубы и
умываться казенным обмылком в рукомойнике при входе. Как-то, пока я в свою
очередь пользовался щеткой, мой новый друг осведомился о времени у бодрого
пенсионера в шевиотовом костюме не по сезону, приводившего в порядок седины
перед зеркалом, вделанным в сушилку для рук. Тот шумно продул гребенку и
ответил, что около восьми; Владимир Киевский с большущего значка у него на
лацкане зыркнул на нас, как смотрят на мышь в сусеке. "Утра или вечера?" --
спросил мой друг. "Тьфу, -- сказал пенсионер, -- ну что с вами делать?
Только убивать на хер..."
меценатов -- многопрофильный кооператив, тихомолком сплавлявший за границу
цветной металл, а напоказ -- всяческие любопытные вещицы местному населению.
Я прочел кипу их рекламных листков. А талисман-оберег в форме сплетенной из
световодов косицы даже держал в руках. В его структуру закладывался
универсальный космический код. Если такой кунштюк повешен в доме над дверью,
темным мыслям переступившего порог злодея положено было развеяться за пять
-- восемь секунд, уступив место раскаянию и уже в порядке вещей следующей за
ним благости. Кооператив отмывал деньги, моему другу приходилось
расписываться за суммы, каких он и в глаза не видел, но все же теперь
удалось заказать нужную технику и к осуществлению компьютерной мечты
приблизиться почти вплотную. Под такое дело он решился сменить базу и
перебраться в более респектабельный дворец культуры, где можно было снять
балетный класс и несколько подсобных комнаток к нему. Он очень гордился, что
корабль, от киля до клотика выстроенный его собственными руками, все-таки
выходит в настоящее море: отныне его актерам начислялась даже некоторая
зарплата.
каникулы. Возможно, это было ошибкой с его стороны -- так или иначе, но
дождаться назад своих Галатей ему оказалось не суждено. Вскоре открылось:
некий директор антрепризы, затесавшийся в узкий круг приглашенных на
последний спектакль, был этой парой совершенно очарован и не одну неделю
потом их обхаживал, нашептывая когда по телефону, когда пригласив пройтись
бульварами, что ему не случалось еще видеть, чтобы такие одаренные
исполнители были настолько подавлены диктатом режиссера-тирана. Что они,
должно быть, и сами еще не догадываются, на что способны, а он человек
многоопытный и за свои слова отвечает: на свободе их дарование тут же
раскроется, как драгоценный бутон. Созданный им "Новый московский
эротический балет" стал бы столь редкому цветку идеальной оранжереей.
склон, откуда удобно будет спустить на тормозах сговорчивую совесть).
Обольститель устал и наконец признался, задумчиво перебирая бумаги на
оформление документов для выезда на гастроли в Перу и Аргентину, что
вообще-то с огромным уважением относится к их принципиальности, и даже
завидует, и прекрасно понимает, отчего мысли о такой мишуре, как выгодные
контракты, приличные деньги, шумный успех, не соблазняют их. Ведь находиться
на переднем плане искусства, участвовать в наиболее революционных проектах
своего времени -- все это чрезвычайно ценно само по себе. Не исключено, что
он говорил от чистого сердца в минуту, когда отчаялся уже заполучить две
души столь строгие и считал, что незачем больше ваньку валять. Не исключено,
что был он искренне удивлен, когда именно после его проникновенных слов
строгие души в один голос дали согласие. Мой друг, узнав об измене, впал в
предынфарктное -- в самом натуральном, клиническом смысле слова -- состояние
и хватался за сердце всякий раз, стоило ему приподнять голову с подушки.
Французская любовница пребывала там, где и велел ее статус. Бывшая жена,
смыкая руки на животе, отправилась с новым мужем вынашивать плод в
экологически чистую провинцию; а ехать в больницу он отказывался наотрез --
и, кроме меня, никого не осталось, чтобы ухаживать за ним. Его прежде всего
терзало, что он выпустил из рук, сам позволил им уйти, оторваться. Ему
казалось: будь он рядом, нашел бы как, чем на них повлиять, что объяснить --
они бы одумались и не приняли такого решения. Я пытался его утешить, упирал
на то, что все равно ведь малопонятные периоды истории обществ, когда бывало
востребовано искусство высокое, освободившееся от сиюминутных контекстов,
теперь, к добру или к худу, окончательно миновали и больше -- тут зуб даю --
не повторятся. Я не надеялся его убедить: извне (независимо от болезни) до
него и очевидное зачастую доходило с трудом; он мог, например, добиться
приема в городском управлении по культуре и требовать там ответа, почему
государство выделяет деньги и помещения Театру оперетты или ансамблю
"Березка", а вот ему -- ничего, ни копеечки, хотя и слепому видно, что все
оперетты, взятые вместе, не стоят одной-единственной его постановки.
Главное, что струна, натянувшаяся у него внутри до опасной близости к
разрыву, стала все-таки ослабевать понемногу и кое-где уже провисала. Нотки
обреченности в его речах сменились на вполне здоровое злопыхательство. В
основном по адресу недавнего сержанта милиции, который, что бы ни мнил о
себе теперь, должен помнить, что без прозорливости, вмешательства,
направляющего воздействия обманутого им руководителя и наставника так и нес
бы по сю пору дежурства на проходной Первого мясокомбината, принимая на пару
с заслуженным стрелком ВОХРы Софоклом Аристотелевичем Грамматикопуло
(кстати, как это можно себе вообразить -- копулирование с грамматикой?) от
работников сардельки и филейные части за право выхода без проверки сумок; а
в свободное время в кружке пантомимы клуба УВД перемещал с места на место
незримые мячики.
гриппом. Так, лежа в разных углах комнаты и чем возможно помогая друг другу,
мы пережили августовское танковое нашествие, о ходе которого никак не могли
составить ясного представления из противоречивых радиосводок.
обозначилось в лице напряжение мысли и души. Приобрел прежде нехарактерные
для него несколько суматошную оживленность и любопытство к простым вещам.
Увлеченно чинил расшатанные стулья или начищал обувь, рассуждая вслух о том,
что всякий труд способен приносить удовлетворение. Я не принимал это за
чистую монету, но догадывался: болезнь, беспомощность напугали его, и он



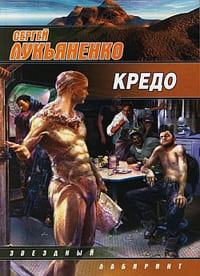
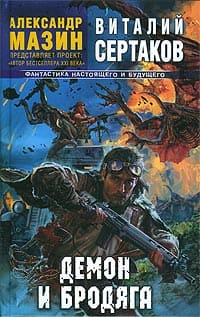

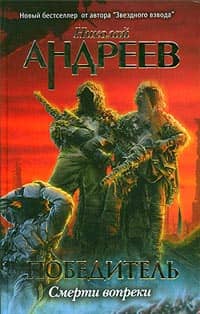 Андреев Николай
Андреев Николай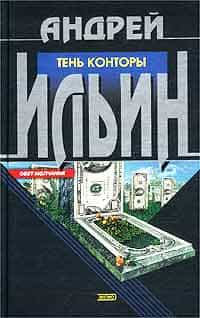 Ильин Андрей
Ильин Андрей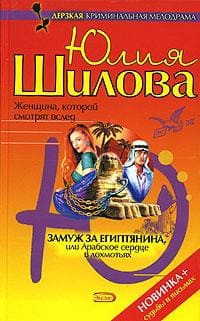 Шилова Юлия
Шилова Юлия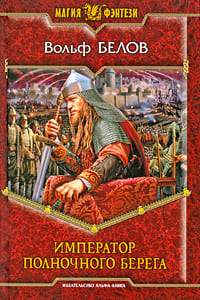 Белов Вольф
Белов Вольф Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Прозоров Александр
Прозоров Александр