оказалась вклеена тетрадка из школьного издания злоключений господина
Голядкина (человек -- не ветошка!). Фрейд не увлекал меня раньше, не
заинтересовал и теперь. Но своих книг я не имел, а в наследство от хозяина
мне досталась кроме трехтомника только брошюра издательства "Наука",
посвященная эволюции вселенной и "большому взрыву". Из нее я узнал, помимо
множества прочих интересных вещей, что уравнениям общей теории
относительности не противоречит гипотеза, по которой всякая элементарная
частица, представляющаяся таковой внешнему наблюдателю, является для
наблюдателя внутреннего полноценной расширяющейся вселенной. Тут открывался
простор фантазии, и я отпускал мысли на волю, наделяя эту удивительно
совершенную картину мира дальнейшими взаимопроникновениями: возможно, из
того космоса, что представляется частицей мне, частицей же видится и мой
космос; возможно, все подвластно закону отражения и в каждом из бесчисленных
миров обнаруживаются идентичные предметы в идентичных состояниях и
одинаковые наблюдатели с одинаковыми судьбами, -- так элемент становится
равен целому, уроборус хватает себя за хвост и замыкает кольцо,
бесконечность примиряется с неповторимостью.
как можно реже -- дабы в ней не все сразу оказалось исчерпанным и
сохранилась перспектива новых захватывающих открытий. Да и объем ее был
невелик; толстый Фрейд куда лучше годился, чтобы потрафить моей многолетней
привычке переворачивать в сутки определенное число страниц. Но знаменитый
австрияк откровенно проигрывал космологии и по контрасту казался мне
удручающе одномерным. Он трижды расшевелил меня при первом чтении, но
сколько я ни возвращался к нему потом -- к этому ничего уже более не
прибавилось. Во-первых, в бескомпромиссном ниспровергателе ложных идолов я
разгадал обычнейшего романтика, желающего любой ценой существовать в поле
тотальных значимостей. Во-вторых, заключил, что термин "вивимахер" --
счастливая находка для русской литературной речи, хотя в постели с любимой,
когда встает проблема цензурного обозначения мужского атрибута и нужно, если
любимая стыдлива на слова, обходиться местоимениями либо, как проза
шестидесятников, емкими умолчаниями, поможет не больше, чем медицинский
"пенис" или музейный "фаллос". В-третьих, оставалась одна неясность.
Понятно: когда снится сигара, ракета, водонапорная башня или отдельная сосна
-- все это суть символы вивимахера. Ну а вдруг, паче чаяния, приснится
собственно вивимахер -- это будет символ чего?
бесу полуденному и закипал -- сдержанно, как угнетенная кастрюлька, -- от
ненависти к себе и к миру, необратимо теряя вкус к тонким страданиям. Если
же в сумерках или вовсе в темноте -- чувствовал себя лучше и принимался
готовить ужин, заботясь, насколько позволяли мои запасы, поддерживать в еде
некоторое разнообразие. Настраивал старенький приемник "Альпинист" на волну
вещавшего до пяти утра рок-н-ролльного радио, где музыка перемежалась
веселым козлоглагольствованием каких-то случайных ведущих. Время от времени
открывал специальную, в красном переплете с китайским рисунком, памятную
книжечку и заносил умную мысль или сложившуюся максиму: иногда -- в столбик,
иногда -- для интереса -- бустрофедоном. Мне нравилось думать о себе как о
певце одиночества и бездомья.
было одинаково ровным и безмятежным. Я ведь, в конце концов, не оттого
только решил до срока запереться здесь, что остался в один прекрасный день
без работы и не представлял, с чего начинать заново. Я надеялся нащупать в
молчании выход, я все еще протестовал, все еще не хотел признавать, что
жизнь, которую стремился превратить в выковывание бытия сокровенного,
обречена развиваться по модели визита к зубному врачу: сажают в кресло,
делают больно, берут деньги... Часто уже в минуту пробуждения мозг мой
изготавливался по старинке к какой-то упорной работе и начинал с бешеной
силой расходовать энергию, прокручиваясь вхолостую. В такие дни меня
одолевали то неуемная тревожная дрожь, то совершенная апатия -- и всего
несколько часов спустя, после короткого яростного всплеска, я валился
обратно на кровать без сил, без мыслей, неспособный вести с собой даже
простенький диалог.
звонку. Но как раз на тот месяц, пока я обживался на новом месте, выпали у
нее семейные неустройства и вдобавок -- болезненно пережитое тридцатилетие,
в котором видела она только могильный камень для своих несбывшихся надежд.
Что-то в ней стало надламываться -- катастрофически быстро, все сильнее и
сильнее. Я искал, чем помочь: хотя бы слова, на которые она сможет
опереться. Но мои попытки встречали насмешку свысока и злую неприязнь. Она
нуждалась не в этом. И уже не могла держаться со мной иначе, чем неумело
навязывая мне какую-нибудь свою боль. А я всерьез сомневался, сумеет ли она
вообще выправиться. Теперь я не знал, когда и в каком состоянии должен ее
ждать: пьяной вдрызг, или до предела, до крика взвинченной, или проглотившей
слоновью дозу таблеток -- и придется силой вливать в нее подогретую воду,
чтобы промыть желудок (наши соития бывали после таких процедур особенно
неистовы).
в сумасшествие. Но все же она опомнилась, остановилась. Произвела замирение
с мужем. У нее был трехлетний сын, в младенчестве сильно болевший, так что
из декрета на работу она не вышла, а потом уже как-то не удавалось
устроиться. Не работал и муж: соблюдал художническое достоинство. Втроем они
жили на деньги, перепадавшие от ее родителей. Прежде я старался подкидывать
ей с получки рублей по сто пятьдесят. Тратила она их себе на одежду или на
фрукты ребенку и всегда норовила отчитаться, одновременно отстаивая мужа
(скорее в собственных глазах, чем передо мной): уверяла, что за вычетом
безответственности человек он совсем неплохой. В шутку я спрашивал, почему
из нас двоих, даже внешне достаточно одинаковых, она предпочитает меня. В
шутку получал ответ, что подкупают во мне самодостаточность и воля к
будущему. Я разводил руками: к какому?..
успокоилось и вернулось на круг, я понял, что за эти кромешные дни она
перестала быть для меня сообщением извне, загадочной другой душой, раненной
и тем более неразрешимой. Раскрывшаяся, она превратилась -- как превратился
и ветер, успевший за время разбега набухнуть городской речью, собачьим лаем,
автомобильным бормотанием и вот с лету разбивающий все это о мои
непроклеенные окна, -- в законную часть того, что меня теперь обстояло. И в
ее недавних надрывах я видел отныне проявление той же силы, что закручивала
в барашки отслоившуюся на потолке кухни краску, вспучивала паркет, всего за
сутки разъедала новые прокладки в смесителях, а задолго до рассвета выгоняла
под окна дворника и его душевнобольную дочь -- девочку лет тринадцати или
четырнадцати, без придурковатости в лице, однако с трудом выговаривавшую
простые слова, пугливую и заторможенную в движениях, -- чтобы меня будила их
зычная и неразборчивая перекличка. Ветер я слушал, оставляя ее ночью в
постели, и зажигал, запахнувшись в драный туркменский халат, папиросу от
папиросы. Чувство равновеликости расстояний от меня до всего на свете было
последним, чем я еще дорожил.
силе и покое. Его материю другие мои сожители делали почти осязаемой -- так
звезды то ли задают метрику времени и пространства, то ли порождаются ею
сами. Были они четырех родов, и каждый имел свою строго определенную зону
обитания. В кухне заправляли тараканы. Им было удобно гнездиться в пазах
дверных петель посудных шкафчиков, поблизости от воды. Встречались большие,
напоминающие короеда, средние -- обыкновенные прусаки, и мелкие, как
муравьи: может, недоросли, а может -- карликовая порода. Несколько раз я
успевал, открывая холодильник, заметить краем глаза быстрый прыск таракана
льдисто-белого, мистичного, будто некий единорог: такие, очень
немногочисленные, заселяли, похоже, пустоты в изжеванных резиновых
прокладках "Севера". Под ванной тихо скреблись мыши. Но редко-редко
какая-нибудь из них в задумчивости теряла бдительность и выходила на
середину, на кафель; стоило пальцем шевельнуть, и она тут же, опомнившись,
скрывалась из вида. Ни те, ни другие не причиняли мне беспокойства. Только
на тараканов я мог иногда распалиться и прихлопнуть одного-двух, если
включал свет -- а они не торопились попрятаться по своим щелям. Иное дело --
крысы. Хотя в квартире мы практически не пересекались, сама память о них не
на шутку пугала меня. Порой, наладившись спать, я некстати представлял, как
подкравшийся пасюк вцепится мне в губу или бровь, -- и заматывал голову
вафельным полотенцем. Они явно не жили здесь, только являлись с обходом и
вряд ли даже на пол спускались, пробираясь, судя по осторожным ночным
шорохам, вдоль газовых и водопроводных труб (которых целый пук выходил из
подвала на кухне -- так, что горизонтальное колено, убранное в фанерный
оштукатуренный приступок, не позволяло придвинуть мебель вплотную к стене).
Всего однажды я застал крысеныша изучающим содержимое мусорного ведра --
чуткий кончик его носа шевелился, как недоразвитый хобот. Но и этот
единственный вместо того, чтобы бежать, взял да и показал мне зубы.
знал средства. То есть знал одно, и, как мне довелось убедиться,
действенное, -- молебен. Когда игумен уговорил меня идти к нему работать,
еще и месяца не прошло, как из церковного здания, в известные годы
превращенного в трехэтажный производственный корпус, окончательно выехал
какой-то побочный цех соседнего оборонного завода; поначалу антиминс
раскладывался прямо на массивной, вделанной в фундамент станине бывшего
фрезерного станка, отчего служба здорово смахивала на катакомбную. Заодно
подпали десекуляризации и фабричные крысы. Все три этажа были ими освоены и
приспособлены под себя; все стены и перекрытия они прошили выгрызенными
ходами -- и хозяйничали по праву заместителей Бога. Людей не боялись;
правда, и на глаза особенно старались не лезть, но при встрече уже не
обращали внимания ни на окрик, ни на сапог или кирпичный осколок, брошенные
недостаточно метко. Только внизу, когда освятили престол, некоторое
пространство вокруг него стало для них недоступным. Я наблюдал не раз, как
рыскующая напрямки крыса вдруг начинала огибать по периметру невидимый круг.



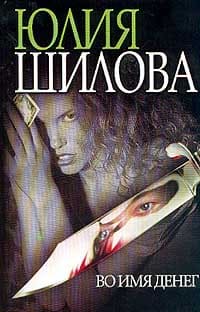


 Березин Федор
Березин Федор Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Никитин Юрий
Никитин Юрий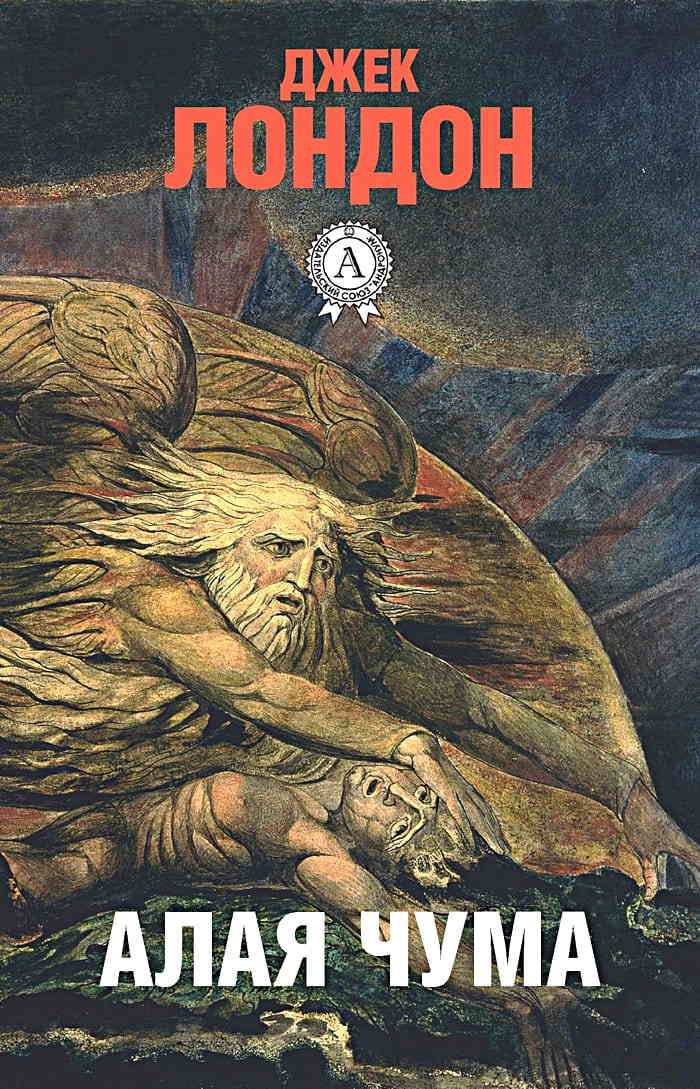 Лондон Джек
Лондон Джек Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Посняков Андрей
Посняков Андрей